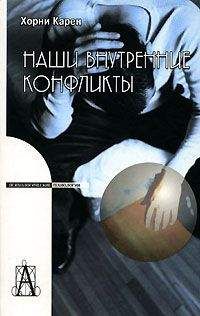Потом он попросил меня говорить, как говорят деревенские жители Среднего Запада. Я ответил, что не могу говорить так только потому, что так надо. Я должен окунуться в тот язык, уйти в него. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он. «Я должен оказаться там, где был вчера с дедом», — ответил я. «Ты был на похоронах?» — спросил он. «Конечно». «Расскажи мне о них», — попросил он. Я рассказал ему все: как я жил у них, как помогал бабе ухаживать за больным дедом, как дед умер, рассказал о ночном бдении, о погребении.
«Ты много плакал?» Нет. Немного в первый день и немного на похоронах, когда деда опускали в землю. Я старался вести себя как мужчина, как меня учили. Мне было тогда тринадцать. «Ты попрощался с дедом, когда его опустили в могилу?» Нет. Я не мог сделать этого, когда рядом находились все эти люди. Они
19 — 849
бы вывели меня прочь. «Попрощайся с дедом сейчас. Скажи ему, что он для тебя значил».
И я сказал деду последнее прости, сказал со всей любовью, со всем горем, которые пронизали все мое тело с головы до пят. Я плакал и говорил с дедом до тех пор, пока не осталось ничего невысказанного. Я говорил, как любил его, потому что был ему не безразличен, потому что он показывал мне, как делать разные вещи и всегда опекал меня. Я говорил ему, как мне нравится учиться делать эти вещи самому, чтобы он видел, что его любовь и забота не пропали даром. Я говорил ему, как хотелось мне, чтобы он понял меня, когда я стал отдаляться от него, становясь старше; но мне надо было отдалиться, потому что всегда надо начинать жить по–новому, отказываясь от старого. «Мне надобно идти, деда. Мне надобно идти!» О, я плакал и плакал, не переставая. «Мне надобно идти, деда, пойми меня, прошу тебя! Пожалуйста! Ты ни в чем не виноватый, деда, но мне надобно идти! Прощай, деда, прощай и прости!» Я плакал, слезы текли бурным потоком, как река во время весеннего паводка. Я плачу сейчас, когда пишу это, и также я плакал, когда писал это в первый раз.
Потом Арт сказал мне, чтобы я попросил папу быть таким же, каким был дед. И я попросил. Я сказал ему все. Я сказал ему, как мне хотелось быть желанным для него, чтобы он заботился обо мне, как дед. Потом я рассказал Арту, как мама и папа не хотели, чтобы я родился, как папа сказал, что лучше бы он прищемил свой член окном или отрезал его, когда узнал, что мама беременна мной. Потом я сказал: «Папа, ты знаешь, чего я действительно хочу? Я бы хотел, чтобы ты пожелал всего на свете, счастья и всего того, что идет с ним — потому как в этом все, папа. Я бы хотел, чтобы ты желал маму, жалел бы ее, желал бы, чтоб она понесла и пожелал и меня тоже. Потому как вот, где я, папа: я же больше, чем я. Я — это сама жизнь! И ты должен хотеть ее, папа, ты должен хотеть ее!»
Потом я говорил о матери и о том, как она всегда вела себя так, словно так ничего и не поняла — она не позволяла себе ничего понимать — все время ворчала, все время нервничала, все время была раздражена. И у меня слова заболела спина, также как она болела вчера. Арт заставил меня немного полежать
и прочувствовать боль. «Что ты чувствуешь?» — все время спрашивал он. «Мне сильно стягивает поясницу, я постоянно стараюсь ее выгнуть, — ответил я, наконец, — словно стараюсь собраться перед…» «Чем?» «Перед тем, что могу остаться один. Это все равно, что идти босиком по острым камням. Если не остережешься, то обязательно порежешься».
Потом Арт заставил меня сказать матери, что она режет меня. И я действительно дал ей себя порезать. Я кричал во всю силу своих легких, умоляя ее перестать меня резать. Она всегда ворчала и ругалась. «Отойди от меня! Оставь мою спину!» Перестав кричать я почувствовал неудержимое желание помочиться.
Когда я вернулся из туалета, Арт высказал свое удивление тем, как быстро я учусь. Он сказал, что я проделал изумительную работу. И это помогло, так как я почувствовал, что нахожусь не так далеко от конца туннеля, как это казалось мне еше сегодня утром. Вернувшись домой, я принялся размышлять о том, как я сегодня объяснял Арту, почему я неудачник. Я был запрограммирован на то, чтобы быть им. Причина: если бы я знал, что я уже неудачник, у меня не было бы причин волноваться по поводу того, что меня бросили. Я сам выключился из драмы, не дожидаясь, когда это сделают они.
Пятница
Сегодня был на первом групповом сеансе. Сначала я осмотрелся и немного понаблюдал. Потом я лег на пол и снова попрощался с дедом. К концу я почувствовал, что дед бы понял, что у каждого из нас своя дорога — что нам надо идти по разным путям — ему к смерти, а мне к возмужанию. Я почувствовал, что теперь мы стали по–настоящему близки, несмотря на то, что шли разными путями — каждый своим. Это было сродни чувству, которое испытываешь, стоя на земле или лежа в постели с любимой — когда не ощущаешь ни малейшего напряжения. Арт велел мне погрузиться в это чувство, и я сделал все, что мог посреди всего крика и плача, которые раздавались вокруг. Я пока не привык к этому, но думаю, что скоро свыкнусь.
Потом, когда все поднялись с пола, мы стали беседовать. Арт представил меня группе. Я сказал, что не чувствую, что знаю достаточно, чтобы внести в группу что‑то свое. Я сказал им, что проснулся сегодня утром, понимая, что пора прекращать трахаться с женщинами, потому что каждый половой акт отнимает у меня слишком много чувства. Арт обернулся ко мне и сказал, что я не выгляжу настолько сексуальным. Он выразил свое удивление по поводу того, что я много времени сплю с женщинами. Потом он добавил, что таким способом я прикрываю свою скрытую гомосексуальность. Этим он просто стер меня в порошок.
Когда я вернулся домой, голова моя раскалывалась от боли. Желудок мой был расстроен настолько, что я не мог есть. Все, что я мог сделать — это лечь на пол. Я чувствовал, что если я всю свою жизнь был гомиком, пусть скрытым или еще каким, то какого черта я вообще отираюсь на белом свете, будь я проклят. Мне захотелось избавиться от этого проклятия. Я погрузился в себя, постарался вернуться во времени назад, чтобы определить свои гомосексуальные чувства. Боль стала такой нестерпимой, что пришлось позвонить Арту. Он оказался в Санта–Барбаре. Я хотел войти в первичное состояние, и решил спросить у него, как это сделать дома. Он сказал, что у меня ничего не выйдет, но дал мне номера телефонов людей, которые могли меня взять. Я сказал, что хочу знать, смогу ли я избавиться от своего гомосексуализма. «Без проблем», — ответил он. Я расплакался от облегчения и сказал, что теперь могу подождать с первичным состоянием и до понедельника.
Понедельник
Начало сегодняшнего сеанса было трудным. После разговора с Артом по телефону мне пришлось блокировать и отключить свои чувства, просто чтобы устоять. Арт поинтересовался, что происходило со мной в субботу. Я постарался рассказать, что мог, но меня заклинило, и я замолчал. «Ну, а что ты чувствуешь сейчас?» — спросил он. И тут я набросился на него. Я плакал и кричал: «Почему вас не было здесь в субботу, когда вы
были позарез мне нужны? Что за пакость вы сделали! Обвинил меня в гомосексуализме, а потом, как жук слинял в другой город! Вы же знали, какая будет реакция».
Он велел мне снова лечь и перестать волноваться, так как с этим вопросом мы разберемся по–другому. Он попросил рассказать ему о моей жизни. Я рассказал, как влюбился в Бетти, рассказал о своих отношениях с Луизой и о моем браке с Филлис. Он обратился к теме более старших женщин и стал расспрашивать меня о Вай. В конце рассказа о Бетти, когда я подошел к самой болезненной части, мне захотелось в туалет. Желание помочиться нарастало, пока я рассказывал об этой женщине. Я сказал об этом Арту. Он велел мне просто прочувствовать это и не двигать ни единым мускулом. До этого мои руки уснули, когда я, лежа на полу, раскинул их в стороны. Он спросил, не чувствую ли я, что они слишком длинные. Я ответил: «Нет, просто они уснули еще сегодня утром. Я и сам не знаю, что с ними делать». Он снова велел мне не двигаться и прислушиваться к моим ощущениям, чтобы почувствовать, что происходит. Так я и лежал. Вскоре я начал чувствовать переполнение в кишках. Меня просто раздувало, толкало вверх. Потом я стал шлепать руками и ногами по полу и вертеть головой из стороны в сторону, так сильно нарастало во мне внутреннее напряжение. Я был ребенком и лежал в своей кроватке. Я отчетливо и ясно это чувствовал. Я напрягал руки, как напрягает ручки плачущий ребенок. Рот у меня высох, словно я пытался что‑то высосать из пустой бутылки. Я ничего не говорил и не плакал. Я просто отчаянно колотил по полу руками и ногами и хватал ртом воздух. Наконец, я так устал, что выдохся и затих. Потом, сознательно и медленно я повторил все эти движения, вытянул трубочкой губы и протянул вперед руки, словно для того, чтобы удостовериться, что я помню, как они выглядят.
Выходя из первичного состояния, я пребывал в каком‑то тумане, не совсем понимая, как все это происходило. Но, похоже, получилось примерно следующее — Арт спросил: «Тебе никогда не разрешали его трогать, так?» Я схватился за член и сказал: «Нет, меня всегда за это били по рукам». Потом я воспроизвел это, ударив себя по руке и рассказав Арту, как это