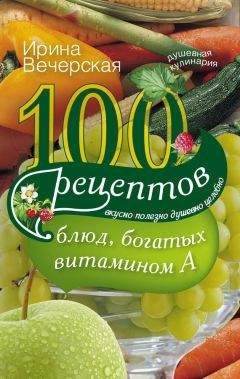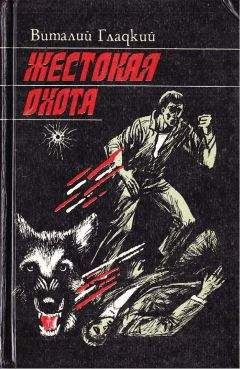Виталий Гладкий
Жизнь взаймы
Очередной мусоровоз разрешился от бремени с натужным выдохом, и кучу пищевых отходов и разнообразного мусора, извергнутую из его железного нутра, облепили, как саранча, бомжи. В отличие от устоявшегося представления об этих несчастных изгоях, они искали в куче не продукты, а стеклянные бутылки, алюминиевые банки из-под пива и других напитков, пластиковые баллоны, макулатуру и металлолом.
Провизию работающие на свалке бомжи, которые называли себя "старателями", тоже не пропускали. Но еда в данном случае не была главной целью отверженных. Ее было больше, чем нужно, так как на свалку, чаще всего в субботу, тоннами привозили просроченные продукты, а также испорченные овощи и фрукты.
Конечно, большая часть этого добра изымалась теми, кто контролировал свалку, и направлялась на различные левые рынки, где не было надлежащего контроля за качеством продуктов, но и того, что оставалось, бомжам вполне хватало.
Зараженные вирусом капитализма, изгои гонялись за наличными деньгами, которые в буквальном смысле валялись под ногами. Свой заработок они в основном тратили на водку, являющуюся на свалке жидкой валютой.
Что касается одежды и обуви, то этого добра привозили на свалку – завались. Дефицитным было лишь нижнее женское белье, как это не удивительно.
Водки требовалось много – не менее литра в день каждому "старателю". Особенно ценилось спиртное по утрам, когда наступал период опохмелки. Без стакана водки ни один пьющий бомж к работе не приступал.
Набив мешки и пакеты своими находками, бомжи торопились на КПП, которым заведовал официальный сторож, или "менеджер" мусорной свалки, если выражаться по-современному, Никита Тюнькин. Для бомжей-старателей он был "голова".
Ему уже перевалило за шестьдесят, он был лыс, как колено, имел солидный животик и отличался сварливым характером. За глаза бомжи кликали Тюнькина весьма неприлично и, конечно же, совсем не литературно – Верзоха.[1]
Сегодня голова был не в духе. Похоже, Тюнькин еще не успел похмелиться, потому что его крупный бугристый нос отливал нездоровой синевой.
– Куда прешь, чмо ушастое! – рычал голова на худого и длинного, как глист, бомжа, который притащил чувал алюминиевых банок. – Стань в очередь, Пескарь.
– Дык, это, я стоял, – оправдывался бомж, шмыгая утиным носом.
– Брехло собачье! – негодующе взвилась бомжиха, которую звали Варька. – Это когда же ты стоял!? Вечно лезет впереди всех.
– Неправда твоя, – не сдавался длинный бомж. – Я занимал очередь. Петруха! Скажи им, – обратился он к невзрачному мужичку, который неподалеку сосредоточенно считал деньги, полученные от Тюнькина.
– Занимал, – буркнул Петруха. – Наверное… Никита Иваныч, не хватает двух червонцев.
– А ты считай лучше, – хмуро ответил Тюнькин.
– Я считал!
– Ну и продолжай… в том же духе.
– Верзоха опять за свое, – вполголоса с ненавистью сказал бомж, носивший румынскую фамилию Туркул. – Так и норовит обсчитать. Все ему мало. Гад…
– Молчи, Турка! – одернул его степенный бомж Есесеич; ему уже стукнуло никак не меньше семидесяти годков. – Иначе даст по шеям и попрет с Мотодрома. Это ему как два пальца… Или отправит в рабство, металлолом с площадки грузить на машины. А там тебе точно хана. Оттуда, сам знаешь, обратно не возвращаются…
Мотодромом бомжи-старатели называли самую козырную городскую свалку, на которой они сейчас и обретались. Были еще две, но и "улов" там был поменьше, и условия для жизни спартанские – рядом дымил завод по переработке мусора.
То ли дело Мотодром: и до города рукой подать, и лес с озером и речкой рядом, где можно искупаться в жаркий день и набрать воды для того, чтобы приготовить пищу. Поэтому за Мотодром держались руками и ногами, и чужаков отваживали всеми доступными методами и средствами.
Новые старатели могли попасть на Мотодром только с высокого соизволения головы. Но старожилы свалки не всегда принимали новичков в свою компанию по тем или иным причинам. Нередко во время таких конфликтов дело доходило до драк и даже смертоубийств. И не только по пьянке.
Все бомжи были разделены на "кланы" и у каждого клана была своя территория. Когда на территории появлялся чужак, его изгоняли пинками, а если он пытался сопротивляться, то били смертным боем.
Во времена развитого социализма на месте свалки и впрямь был мотодром. Когда началась перестройка, закончившаяся перестрелкой, которая знаменовала собой реформацию – возрождение дикого капитализма, в районе мотодрома почти каждый день разыгрывались кровавые драмы.
Сколько здесь погибло братков и отморозков, облюбовавших мотодром под место для "стрелок", про то официальная история умалчивает. Но контингент центрального городского кладбища за десять лет – с девяносто пятого по две тысячи четвертый год – удвоился.
Свалка на месте мотодрома возникла стихийно. Пользуясь тем, что городские власти были заняты решением личных проблем, связанных с разделом собственности, ушлые шоферюги игнорировали платные свалки и везли сюда (преимущественно ночью) что ни попадя.
Когда, наконец, чиновная рать, набив под завязку карманы, опомнилась, исправить положение уже не было никакой возможности – мотодром с птичьего полета напоминал развалины Хиросимы после атомной бомбардировки.
Извилистые грунтовые трассы были похожи на улицы, а горы строительного мусора на обочинах запросто можно было идентифицировать как разрушенные взрывом дома японских самураев, которые строились из дерева, бумаги и дикого камня.
Начальники посмотрели, посмотрели на это безобразие – и единодушно закрыли на него глаза. Сие инстинктивное действо означало – с глаз долой, из сердца вон (или что там у чиновного люда на этом месте).
После этих "смотрин" еще два или три года свалка считалась стихийной, а потом, с приходом нового мэра, обрела официальный статус.
Градоначальник был по жизни ушлым типом, поэтому быстро смекнул, что Мотодром – это золотое дно. Если, конечно, не обращать внимания на густое амбре, тихими летними вечерами вливающееся через оконные форточки в квартиры на городской окраине.
Так на свалке появился приемный пункт, куда бомжи за бесценок сдавали банки, бутылки, металлолом, бумагу, картон и тряпки. Особенно ценилась стеклянная посуда, но собирать ее, или "отмывать", имели право только старожилы свалки, которые проработали на Мотодроме не менее двух лет.
Кроме того, в большой цене был еще и металл, в частности цветной. Но для его сбора требовалось специальное разрешение головы, который выдавал счастливчику так называемую "метку" – сильный магнит; с помощью "метки" бомжи-старатели сортировали металлические изделия.
(Есесеич тоже принадлежал к "избранным" и имел свою "метку").
Чтобы привлечь дешевую рабочую силу, смотрящий за Мотодромом бандит, работающий на паях с мэром, разрешил бомжам обустраивать на свалке и в ее окрестностях жилища. Милостивец…
И вскоре неискушенный наблюдатель, нечаянно забредший на свалку, мог наблюдать фантасмагорическую картину, представляющую собой некий собирательный образ Земли в двадцать втором веке, когда воинствующая цивилизация, эта петля на шее человечества, окончательно разрушит окружающую среду.
Горы мусора, черный маслянистый дым от костров, невыносимая вонь, тучи мух, кружащее над свалкой воронье, голуби и чайки, разномастные и разнокалиберные бродячие псы… и немыслимые хибары, жилища бомжей, разбросанные по всему Мотодрому как грибы-поганки.
Материалом для строительства служило все, что попадалось изгоям под руку: куски фанера, обрезки досок, толь, дощечки от деревянной тары, битый кирпич, куски ржавой жести и шифера, полиэтиленовая пленка и даже некондиционные бутылки.
Немало было тентов и палаток, особенно в летнее время. "Старатели" ставили такие времянки, чтобы не возвращаться в город, где у некоторых – правда, очень немногих – были даже квартиры.
Впрочем, большинство из них ленилось ставить даже палатки; бомжи так и спали среди мусора, приняв на грудь сногсшибательную дозу спиртного. Некоторые из-за этого попадали без пересадки на тот свет, угодив под нож бульдозера, который планировал свалку.
– А ты чего стоишь в сторонке? – спросил Есесеич бомжа, лицо которого было изуродовано до такой степени, что Квазимодо по сравнению с ним был просто красавчиком. – Подтягивайся ко мне, иначе Верзоха закроет лавочку и пойдет с корешами калдырить. Тады к нему и на хромой козе не подъедешь. Останешься на сегодня без филок.[2]
Бомж с благодарностью кивнул и воткнулся в очередь к приемному пункту впереди Есесеича.
– Нет, ну вы только посмотрите! – Варька подбоченилась. – Еще один шустрила выискался. Есесеич, ты зачем этого придурка впереди себя поставил? Думаешь, я не вижу? Гони его на хрен!