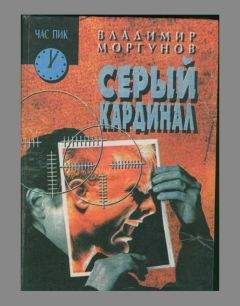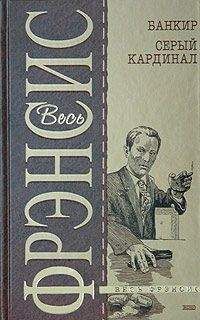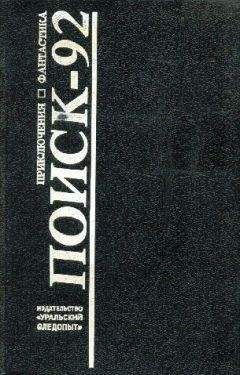Все прошло, как надо. Часовым в самый последний миг их жизни показалось, наверное, что горы вздыбились и рухнули на них. Мгновенно сломанные шейные позвонки не позволяют сработать никаким рефлексам — палец не нажимает на спусковой крючок, ноги не выбрасывают тело вверх, из горла не вырывается ни звука.
Дом, в котором светились сейчас огни, легко мог быть расстрелян с того места, где располагается уничтоженный пост — при снятых приборах бесшумной и беспламенной стрельбы оттуда можно было бы вести достаточно точный прицельный огонь, а пули калибра 7,62 мм прошили бы деревянные стенки домика с такой же легкостью, как и листы картона. Еще более простое решение — расстрелять домик из гранатометов, разнести его и всех в нем находящихся, в клочья. Но никому из шестерых такая мысль и в голову не пришла. И даже не потому, что у них была конкретная задача — по возможности взять одного из находившихся в доме живым — просто жажда риска и желание подвергать себя смертельной опасности составляли их природу. Клюева учили кое-чему на занятиях по психологии, он читал Фрейда и Юнга, и вывод, сделанный им самим, в принципе не противоречил теории — в человеке наряду с инстинктом самосохранения живет и подсознательная тяга с самоубийству. Зрелый, уравновешенный, здоровый человек напивается вдрызг, прекрасно зная, много раз убедившись на опыте, что выпивка чревата сплошными потерями и издержками, сопряжена с массой неприятных ощущений. Молодой, полный желаний, планов, устремлений — лезет по абсолютно отвесной, практически гладкой стене высотой в две сотни метров, на этой стене он никогда не был, знает только понаслышке о том, что она из себя представляет, зато точно знает, что с этой стены уже сорвалось несколько человек, он пользуется крючьями, вбитыми неизвестно кем до него и вполне могущими оказаться ненадежными.
К домику, стоявшему от ближайшей кучки деревьев метрах в двадцати, они не стали подкрадываться, пошли во весь рост. Существует вероятность, что все здесь не знают всех, мало ли народу ходит…
Клюев, шедший первым, всадил несколько пуль в человека, стоявшего у дома. Часовой не успел нажать на спуск, это уже было большим везением. Не позже, чем через две секунды Клюев широко распахнул дверь и сразу же отскочил в сторону, пропуская товарищей. Помещение, в которое они попали, представляло из себя нечто, напоминающее веранду или холл. За второй дверью слышались возбужденные голоса: тюркоязычная, как выразился бы лингвист, речь вперемешку с незамысловатым русским матерком. «Совет в Филях, мать-перемать, сейчас Кутузова узрю, бля буду», — с каким-то бешеным восторгом подумал Клюев.
Прерывая «Совет в Филях», он распахнул и эту дверь. Вот тебе и второе действие — картина Репина «Не ждали». Клюев готов был расхохотаться, наблюдая застывшие, вытянувшиеся лица, с замершими на них, будто приклеенными выражениями: то бесконечного изумления, то запоздалой досады — вах, прозевали, как прозевали! Была и тревога на некоторых лицах. Одного выражения не было: страха.
«Сурьезные мужики», — сделал вывод Клюев и полоснул очередью стоявших в дальнем углу — не потому, что они ему особенно не понравились, а потому, что через плечо у них были перекинуты короткоствольные автоматы. Остальным за оружием надо было тянуться.
Его (его!) майор — хотя и без знаков различия, конечно, — сидел за столом как раз напротив, поэтому Клюев, не думая о том, что кто-то опомнившись, полоснет и по нему, взлетел на стол и, опираясь при падении левой рукой на его крышку, саданул изо всех сил правой ногой в челюсть не успевшего подняться Дабиева.
Они с грохотом свалились под стол, все трое — Клюев, Дабиев и стул. Стул за ненадобностью был отброшен далеко в сторону, Дабиев получил еще один сокрушительный удар в челюсть — тэтсуи, «кулак-молот», полная гарантия нокаута.
Клюев многозначительно завернул рукав полностью «отключенного» Дабиева, выхватил из карманчика, размещенного на своем плече, пластмассовый шприц и щедро выдавил его содержимое в руку майора. «Спи спа-акойно, дарагой! Лучше — несколько часов подряд. Вечного сна не надо — меня не так поймут».
Неожиданно над ухом у него бахнул выстрел. Он инстинктивно сжался, представив ощущение тупого удара по плечу или, хуже того, видение яркой вспышки от бомбы, разорвавшейся где-то в мозгу. Ничего подобного не случилось. Взгляд Клюева, метнувшийся в сторону, откуда прозвучал выстрел, зафиксировал разорванную в нескольких местах на груди гимнастерку, густую кровь, пузырящуюся на густых волосах, лезущих из выреза и поднимающихся до самого подбородка, где рост был остановлен бритвой. Только один из атакованных успел воспользоваться оружием, пистолетом. Но выстрел наверняка был слышан в лагере.
— Клим! Хватай его! — Клюев указал на Дабиева. — Дато! Будешь его подстраховывать. Гранатометы оставьте! Остальные прикрывают их!
Он подхватил гранатомет и первым выбежал из дома. Из палаток и других домов пока еще никто не появлялся. Ничуть не изменив походки — или побежки? — рядом промелькнул Клим с Дабиевым на плече, за ним, делая трехметровые шаги, мчался Дато, держа два автомата в руках.
Клюев и трое остальных, держа гранатометы наготове, отходили, боком, вполоборота к лагерю. Драгоценные секунды — одна, вторая, пятая… Из-за палатки появились несколько теней, прозвучали выстрелы — скорее в воздух, для самоуспокоения. И тотчас же эту палатку разметало в клочья. Отбросив пустой гранатомет — обычный армейский «шмель» калибра 64 мм — Клюев подхватил с земли «Стингер» и жахнул в соседний домик. Пусть думают, что по ним начали лупить ракетами с вертолетов или обстреливать из тяжелой артиллерии.
Они успели достичь спасительной стены леса, когда в лагере уже вовсю трещали выстрелы, раздавались крики. Группа уходила по тому же пути, по которому пришла сюда — через уничтоженный пост. Только метров через двести удалось настичь Клима и Дато. В просветах между деревьями небо рассекали пылающие полосы трассирующих пуль…
— Николаич! Сэнсей ни рэй! Тысячу лет тебя не видел, даже больше — почти целую неделю. Ты не очень занят сегодня вечером?
— Конничи ха. Я, всегда, не очень занят.
— Я с большим пониманием отнесся к уточнению «не очень», но все же я очень хотел бы видеть тебя. Ты что-то приуныл, да? Старый стал, ленивый, да? Или за внуками некому присмотреть? Короче, я буду у тебя минут через тридцать-сорок.
Клюев, как всегда, оказался точен. Через полчаса он позвонил в дверь Бирюкова.
— С праздником тебя, Николаич!
— С каким?
— Ну, во-первых, пасхальная неделя еще не кончилась, четверг, а во-вторых, день рождения вождя.
— А ведь и правда. Забыл про вождя начисто.
— Вишь, какие мы, советские, забывчивые. Николаич, при всей забывчивости, ты, надеюсь, помнишь избитую фразу насчет того, что всякий труд должен быть оплачен.
— Раз она избитая, я ее помню, только не понимаю, о чем речь в данном случае.
— Тогда возьми вот это, раз не понимаешь, о чем речь идет в данном случае.
Он протянул Бирюкову пять сотенных зеленых бумажек.
— Вот теперь я решительно ничего не понимаю. Почему я это должен взять?
— Но ты же только что сказал мне, что помнишь фразу.
— Фразу-то, может быть, и помню…
— Ладно, Николаич, здесь зарплата, аванс, премия, тринадцатая зарплата…
— …И выходное пособие?
— Нет, скорее входное. Бери, не то обижусь.
Бирюков пожал плечами, взял деньги, аккуратно согнул пополам, положил в нагрудный карман.
Клюев подумал, что у Бирюкова и полугодовой доход вряд ли столько составляет, а вслух спросил:
— А жена твоя где? Она на твои отлучки несколько раз в неделю как смотрела? Тем более, что возвращался ты ну очень уж усталый.
— Никак не смотрела, — взгляд Бирюкова показался Клюеву странным.
— ?..
— Жены нет. Вот уже полтора года, как нет, — просто ответил Бирюков.
— Хм, бывает… — Клюев взялся правой рукой за мочку левого уха — жест этот он очень давно перенял у Грегори Пека из «Золота Маккенны», где шериф, или, как его звали в англоязычном варианте, маршал, вот так же брался за ухо, когда был смущен или обескуражен. Жест наряду с немногими двигательными навыками такого рода остался в арсенале Клюева с тех самых пор. Он научился совершенно автоматически складывать пальцы в кудзи-ин, комбинации по ниндо-микке, комплексу ниндзя и за считанные секунды обретал нужное психологическое равновесие. Он мог терпеть адскую боль, внушая себе, что желает боли еще большей, или сдерживать ярость, продолжая мило улыбаться. Но иногда он брался правой рукой за мочку левого уха, когда бывал сильно озадачен.
— Это бывает редко, — безо всякого выражения произнес Бирюков. — Лучше бы, конечно, если бы она просто ушла от меня, как ты, наверное, предположил. А она погибла, машина ее сбила.