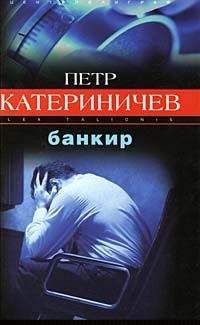Поезд влетел на мост, за окном замелькали металлические перекрытия, громадные, словно ребра дракона, в трубке что-то щелкнуло, связь прервалась. Аля опустилась прямо на ковровую дорожку… Слезы были горячими, и от них становилось легче.
— У вас все хорошо, Аля? — наклонился к ней Станислав Алексеевич.
— Да. Спасибо. У меня все хорошо. Теперь у меня все хорошо.
— Вы счастливая, Аля… Простите старика… Я уж было подумал… Нет, сам я для любовных ристалищ совсем стар… Но у меня сын… И я подумал было… Вы вот стояли у окна, такая несчастная, а глаза… Никогда: я не видел таких глаз… Он бы не смог в вас не влюбиться… Простите уж старика. В сватовстве я был бы совсем неуклюжий посредник… Так, фантазии… Это все коньяк. Хотите еще коньяку?
— Нет, спасибо.
— А я еще выпью чуть-чуть. — Он помолчал, глядя в мутную черноту окна, произнес тихо, словно про себя:
— Мне уже за семьдесят, а я так и не научился быть счастливым.
— А я знаю, — неожиданно для себя сказала Аля, улыбнувшись. — Счастье — это соучастие друг в друге… И сочувствие. Ведь людям на самом деле так немного нужно: чтобы их похвалили и чтобы пожалели. Только и всего. Один человек счастливым быть не может. Но вы ведь не один?
— Наверное.
— Значит, вы сможете. Сможете, ведь правда?
— Правда, — улыбнулся старик. — Я попытаюсь.
— У вас получится, вы только верьте… — Аля подняла усталый взгляд:
— А сейчас я пойду посплю, ладно? Сегодняшний день был невыносимо длинным! Он у меня не умещается.
Станислав Алексеевич церемонно поклонился Але:
— Спокойной ночи, сударыня, — сгорбился и пошел в свое купе.
— Спокойной ночи, — ответила Аля ему вслед.
Колеса размеренно постукивали на стыках — и тем создавали тот размеренный уют, который только и бывает в зимних поездах, в хорошо натопленных вагонах и в чистых купе. Поезд несся сквозь ночь и время, а белые блуждающие огни где-то там, на путях, разрывали тьму, высвечивая сказочные узоры, сотканные на окне ночным морозцем… Теперь, поздней ночью, все, произошедшее за один только день, показалось Але давним и дальним кошмаром… А колеса стучали только одно слово: домой, домой, домой… Аля закрыла глаза и уснула.
Ей снилась гора. Она уходила в высокий простор неба, и ее вершина терялась там, в синей выси. А на склоне горы Аля увидела барса. Сильный гибкий зверь спокойно и уверенно шел вверх по тропе, которую он угадывал среди россыпей камней и ледяных глыб лишь по ведомым ему одному приметам. Снежинки переливались на его шкуре, как тысячи крохотных бриллиантов, и он был красив.
…Барс замер. Перед ним дымилась широкая расщелина; дно ее было сокрыто в бездонной бездне, откуда поднимался удушливый, грязный туман. Барс стоял на самом краю расщелины. Земля дрогнула, из-под лап барса посыпались мелкие камни, и на какое-то мгновение он стал похож на маленького испуганного котенка… Уже стена ущелья стала падать пластами, и времени не осталось вовсе… И барс — прыгнул. Бросок его был стремителен; могучее тело распростерлось над пропастью, шкура снова засеребрилась. Барс махом перелетел расщелину, мягко присел на лапах и, не оборачиваясь, пошел по ведомой ему тропе. Вперед и вверх. Что было нужно ему на такой высоте, никто не знал.
Аля открыла глаза. Мерное покачивание мчащегося через ночь поезда, блики на укутанном морозным узором стекле… Ей показалось, она вовсе не спала, а видела все наяву… И еще она почувствовала, как щиплет глаза. Поднесла ладони к лицу и поняла: это просто слезы. Только и всего. А колеса продолжали отстукивать: домой, домой, домой… Аля улыбнулась счастливо, закрыла глаза и снова "уснула. Теперь ей снилось море.
А поезд летел сквозь мглу, и люди, спящие в вагонах, верили, что утро будет ясным и солнечным и что дни их на этой земле продлятся. И шел снег. Он падал в полном безветрии, тихо и нежно, словно хотел сокрыть до поры светлую тайну, хранимую этим народом и этой землей.
Из монолога Гамлета. (Здесь и далее примеч. автора.)