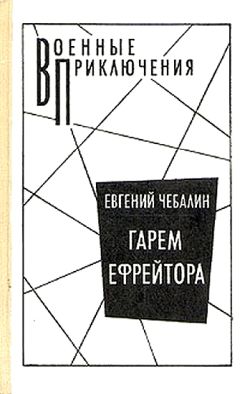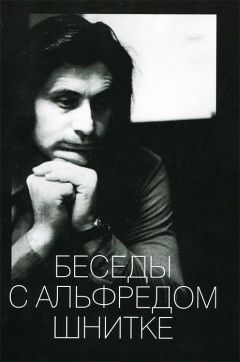– Поделись, когда отработаешь.
– Я разве когда с тобой не делился? – горестно попенял нарком. – Разреши доложить еще одно соображение.
– Разрешаю.
– Коба, сколько чеченцы крови нам попортили? Они породили и укрывают Исраилова. Исраилов написал то письмо тебе, заразил горы фашистами. У тебя слишком доброе сердце. Уже все простил, да? Ты простил – я не могу простить.
– Куда клонишь? Мешают поймать Исраилова, поэтому всех надо выселить? Легко жить хочешь.
– Зачем так думаешь?! Я поймаю его!
– Больше года ловишь. Скоро похудеешь. Ловить чужих баб у тебя лучше получается. Последний раз говорю: ты Исраилова лови.
В трубке раздались гудки. Берия положил ее, взял из пенала карандаш, машинально сломал его. «Что ему надо?… Я же чую: он хочет их выселить. Почему сорвалось?»
Он не терпел долгих переживаний и тягучих дум, мозг бешено сопротивлялся такой нагрузке, молниеносно предлагая действие методом тыка: один вариант, второй, третий… С годами действие становилось его стихией. Поступок стал опережать тягомотину анализа, и чем больше в этом поступке было хруста человеческих судеб, оглушающей непредсказуемости, тем большее наслаждение он доставлял.
Сейчас сосуще-остро захотелось именно действия. И абсолютный нарком велел привести маленького наркома Гачиева. Голиаф еще не решил, что делать с чеченским Давиденком: устроить показательное заклание, чтобы надолго запомнили, или прикрыть – был в употреблении, проверен.
Натура властно требовала поступка, куда хотелось унырнуть от разъедающей угрозы сталинского двусмыслия.
Ввели Гачиева с какой-то бумажной длинной трубкой. Он бережно приставил трубку к стене и бухнулся на колени. Снизу, от пола, глянули в лицо Лаврентия Павловича собачьей преданности, окольцованные чернотой глаза. Ниже блестела разбухшая слива носа. Гачиев раскрыл рот, закричал сиплым фальцетом:
– Можете расстрелять, можете повесить, товарищ нарком! Я все равно кричать буду до последней минуты: да здравствует великий вождь всех народов товарищ Сталин и его самый лучший соратник… (он прервался, подумал) гениальный товарищ Берия! – Он подумал еще и закончил неожиданно урчащим баритоном: – А если кто на меня нагло насексотил – это мои враги.
– Ты знаешь, почему охотник иногда стреляет свою собаку? – задумчиво осведомился Лаврентий Павлович.
– Потеряла нюх! – вскинулся от пола Гачиев.
– Еще.
– Не слушает команды, скалит зубы на хозяина.
– Еще, – не устроило наркома.
– Состарилась, плохо служит.
– Это все можно простить. Нельзя прощать, когда собака, поймав дичь, жрет ее в кустах, втихомолку от хозяина.
– За это не стрелять – шкуру снимать надо! – бурно воспрянул Гачиев, омыло ликование: он не разучился понимать хозяина!
Проворно двинулся к стене, ухватил принесенную палку, содрал с нее бумагу. Придавил двумя стульями края, стал разворачивать холстинное полотно. На паркете расцвел кавказский пейзаж. Посреди него стоял, держался за кинжал мрачный… Исраилов!
Берия завороженно следил за ширящейся панорамой: поймали бандита!
– Пленение Шамиля. Художник Фе Рубо. Пятьдесят тыщ золотых рублей, ей-бох, не меньше, – азартно-вкрадчивым баритоном оповестил Гачиев. – Прими в подарок, Папа. Скоро Хасан перед нами тоже стоять будет. Но не так. Голый, без шкуры. Шкуру с него чулком спустим, клянусь предками, Папа!
– Как ты сказал?
– Папа, я сказал… Папа… Папа! – ударил он лбом о пол.
«Почему сорвалось? Он же сильно хочет всех их выселить… Он никогда не простит Хасану то письмо, своего страха за Кавказ не простит. Нюхом чую!»
– Вставай, – велел большой нарком.
– Не встану, Папа! – ликующе закричал маленький.
«Нужен, – внезапно и освобождающе от проблемы созрело в наркомовской голове. – Такие надолго нужны».
– Свои люди в горах есть? Такие, чтобы ради тебя отца родного не пожалели?
– Найдем, если надо.
– Надо.
Гачиев вскочил: другая жизнь надвигалась, дело давали!
– Хлебом клянусь, все, что надо, – сделаю!
«Исраилова не поймать, пока нацмены в горах живут», – окончательно вызрело в наркоме.
– Запоминай. Нужен большой налет чеченцев на грузинских врагов. На границе с Чечней их антисоветское гнездо – Тушаби. Там грузины разграбили колхозы, угнали скот в горы. Надо отнять этот скот и убить всех предателей пастухов. А потом сфотографировать трупы. Снимки – на стол мне. Кому можешь поручить?
– Есть люди. Лично знаю. Не раз такое делали.
– Когда? – удивился Берия.
– Когда чеченским абрекам нечем было платить нам за легализацию, они угоняли скот у Тушаби. Фотографа тоже найдем. Сегодня позвоню туда.
Он не спрашивал, почему, зачем. Его вел по лезвию ответов могучий рефлекс самосохранения.
– Кому?
– Старшему лейтенанту Колесникову.
– Доверяешь?
– Проверял не раз. Маму родную за деньги, за звание продаст.
– Смотри, не маму, свою голову ему вручаешь. Будешь жить с Валиевым в гостинице и дальше. Запоминай хорошо: день и ночь веди себя как настоящий коммунист. Поступай как образцовый чекист в любом случае, с любым, кто бы ни пришел. Хорошо понял?
– Зачем было напоминать, товарищ нарком? – обиделся Гачиев. – Я всегда так себя веду.
Берия всмотрелся с интересом: знал наглецов, сам поджаривал жертвы в изысканно-фарисейском масле, но чтобы так… безмятежно, на голубом глазу… Виртуоз, собака!
– Все, что с тобой случится, докладывай начальнику отдела контрразведки «Смерш» Юхимовичу.
– Слушаюсь, товарищ нарком. А что должно случиться? – не удержался все-таки Гачиев, но, чувствуя, как пополз холод от Папы, вскричал испуганно: – Если надо, всю мою кровь по капле выпей! Всю, Папа!
– Не надо… сынок. Она у тебя протухла. Пшел!
Он смотрел в длинную спину. Когда она скрылась за дверью, перевел взгляд на пол. Шамиль все так же презирал русское на фоне леса. Он плевать хотел на всю эту щенячью свору в погонах. И на Барятинского с Ермоловым и царем, который в Петербурге, – тоже плевать хотел.
Берия плюнул, целясь в Шамиля. Не попал. Плевок пузырчато нахлобучился на голову одного из офицеров.
Подумал, поднял трубку, услышал в ней:
– Юхимович слушает!
– Как идет разработка чеченцев?
– Все готово, товарищ нарком. Сегодня ночью начинаем круглосуточное прослушивание.
– Я тебя не гоню. За ночь подготовься как следует. Наблюдение и прослушивание начинай завтра с утра.
– Но у нас все готово…
– Я сказал, завтра.
– Так точно.
– Подсадного хорошо обработал?
– Предусмотрели несколько вариантов. Главный выстроен на информации Кобулова из Чечни.
– Расколет этих – орден получишь. Не расколет…
Юхимович затаился, сперло дыхание.
– Не расколет – возьмем чеченцев в аппарат. Нам твердые нужны.
– Может, надо, чтобы… расколол?
– Сволочь, жид пархатый, – плаксиво вогнал в трубку Берия. – По-русски не понимаешь, что ли? Тебе на иврите сказать? Стараться – хорошо. Перестараешься – кому нужен неумный еврей? Пришли краснодеревца, раму для картины сделать. Когда доставят, чтобы штаны у него сухие были и руки не тряслись.
– Понял.
– Нацвлишвили тоже пришли…
– А этого можно… с мокрыми штанами? – очень серьезно спросил смершник.
Нарком оценил.
– Смотри, скоро он сам про твои штаны спрашивать будет.
Был звонок от Юхимовича, и Нацвлишвили заторопился по вызову к наркому. Шагал широко, размашисто, глядя под ноги. В поле зрения поочередно и стремительно вспыхивала сияющая чернота надраенного хрома. Красный ворс ковровой дорожки вел вперед, гасил звуки. Сапоги несли тело полковника бесшумно.
Вызов припекал, будоражил. Коридор обволакивал мертвенной тишиной, квадратно летел навстречу. Наплывали и оставались позади прямоугольные зигзаги.
Остро нравилось то, что осталось позади: повороты под девяносто градусов, ковровая дорожка под ногами, тяжесть полковничьих погон, ночная работа, должность. Все, что поручали, выполнял скрупулезно, с точностью механизма: приводил, уводил, готовил к допросам, «разминал» перед ними упрямых.
Тело под кителем бугрилось мышцами. Костяшки на пальцах задубели мозолистыми наростами. Сердце бесстрастно и мощно рассылало в конечности горячую кровь. Жизнь стлалась под ноги ковровой дорожкой. В ней бесследно и беспамятно глохли чужие визги, вопли, мольбы, хруст костей и хрипы сдавленных глоток. Жизнь летела навстречу таким же коридором – вылизанным, надежно узнаваемым, слепяще высвеченным.
Нацвлишвили оправил китель перед дверью, ведущей к наркому. Охрана, адъютант и секретарь знали полковника. Их сторожевая цепкость не касалась его.
Он толкнул дверь, вторую, третью и наконец проник в храм Всевластия.