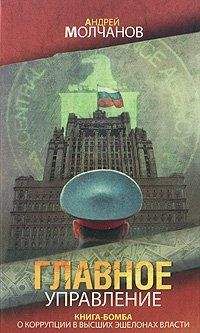Этому назначенцу, продукту чиновной пандемии питерских, я ни в малейшей мере не завидовал. В свое командование он принимал убитую, растерзанную, никчемную структуру, откуда полностью выветрился не то что прошлый боевой дух, но и весь смысл ее существования. Это была уже надуманная, существовавшая ради своего федерального статуса и исполнения политических заказов милицейская богадельня, без определенных задач и основополагающей идеи. Засохший административный сук на министерском баобабе, или же – тренировочный трамплин для всякого рода перспективных управленцев в погонах.
Впрочем, контора интересовала меня ныне не более, чем отправленный на свалку отходивший свое автомобиль – некогда сверкающий лаком, сыто урчащий мощным мотором, готовый к рывку и виртуозному маневру, а ныне – покореженный, с драными покрышками, смердящий перебойным выхлопом, с разбитыми катафотами.
И вот настало утро, которого я долго и мучительно ждал. Утро того дня, с которого начиналась моя новая жизнь.
Я проснулся, переборол с пробуждением сразу же очнувшуюся, едкую, как серная кислота, боль одиночества, боль утраты Ольги и дочери, боль бессмысленности своего существования, потом прошел на кухню, приготовил себе кофе, включил телефон, ранее действующий круглосуточно, но ныне, дабы не мешал моему праздному отдыху вне должности и ответственности, решительно отключаемому на ночь.
Посмотрел список пропущенных вызовов. Их не было. Ни одного.
Я потерянно усмехнулся. И кожей ощутил выросший вокруг меня круг забвения, ширившийся с каждым днем. Да и кому ныне я был нужен? Сослуживцам после моего несостоявшегося назначения в генералы? Коммерсантам, интересы которых мог защитить теперь исключительно в роли жалкого посредника благодаря прошлым связям? Да они уже научились выходить напрямую на нужных людей, как когда-то вышли на меня….
Но огорчаться не приходилось. Я сам – последовательно и тщательно, как убивающий себя скорпион, разрушил систему, приносящую мне блага, утверждающую мои властные позиции и создающую иллюзию полноты и насыщенности жизни. Ибо пора было остановиться.
Я чувствовал: рано или поздно, но разоблачение истории моего мошеннического проникновения во власть грянет. Правда всегда всплывает, пусть иногда как утопленница. И если она всплывет – до скандала дело не доведут. Слишком высоко я забрался. Меня незамысловато и аккуратно кокнут. И никакие генеральские лампасы от такого финиша не спасут.
Но и не в этом дело. Я не хотел быть предателем и шпионом. Но великолепно понимал, что те деятели, которые принуждали меня в безысходности моего положения стать таковым, будут жать до конца, и на плите их жаровни мне придется выплясывать до упаду, до тех пор, пока меня не отправят в топку.
Я остудил плиту. И автоматически потерял к себе интерес не только для ближнего окружения, но и для заокеанских кукловодов, в чьей мощи и широчайших возможностях я не сомневался, равно как и в их способности вовлечь меня в любую каверзу, грозящую мне гибелью.
Но я уяснил себе логику той вероломной хитрющей силы. И сыграл именно на ее логике.
В течение ближайших двух-трех лет, покуда Силантьев находится у трона, он не даст мне никаких возможностей приблизиться к власти, а значит – к информации. А кто я без должности и информации? По прошествии же этого времени моя служебная реанимация – дело тухлое, в кадровой сетке все непоправимо поменяется, и я отодвинусь в дальние, заплесневелые ряды резерва. В лучшем случае. Если, опять-таки, не всплывет правда о моем давнем перевоплощении в милицейского успешного функционера. Да и если бы, начав свою карьеру в милиции чинно и честно, и добившись должности начальника ГУВД, я оказался бы в сегодняшнем своем одиноком и удрученном состоянии, вряд ли меня вдохновила таковая должность на какие-либо свершения. Тем более я был уже непоправимо отравлен неверием в свое дальнейшее искреннее и вдохновенное служение государству. Мне пришлось бы снова и снова идти на скользкие компромиссы, глубоко мне противные, но неизбежные. В таком случае – ради чего служить?
Болезненно и тягостно меня удручало то, что отныне я был совершенно беспомощен, никому не нужен, и приди в голову тому же Силантьеву покончить со мной из-за слепой мести или же из профилактических соображений, спасти меня вряд ли бы кто сподобился. Я выпал из Системы, о чем теперь были оповещены все. И что мешало капнуть, куда следует, про мою сомнительную личность бдительному оперу Миронову, знавшему настоящего Шувалова и вскоре, без сомнений, должному взвесить отстранение от дел не только меня, но и Олейникова?..
Посомневается, поразмышляет, а затем сыграет в нем и уязвленное самолюбие, и милицейский ловчий рефлекс… Пойдет на принцип, напишет рапорт относительно провокации с пистолетом, всученным ему уволенным из органов Барановым, и ведь ему поверят, наверняка поверят…
И, кто знает, когда это случится? Может, уже завтра…
Но теперь для своего спасения мне были необходимы всего лишь считанные часы, и я надеялся на их благополучное для меня истечение.
Я сделал главное, всецело и логично отработав свое алиби для ЦРУ. По двум направлениям: своему должностному изничтожению, вызванному непонятными переменами настроений в министерстве и в Администрации, и нависшей надо мной угрозой провала.
Наверное, мною руководила какая-то подспудная, неразличимая сознанием интуиция, но все свои финансовые и хозяйственные дела я начал тупо и целенаправленно решать на следующий день после ухода Ольги. И в это утро, когда пил кофе в своей квартире, посматривал на часы: в полдень мне предстояло убыть в аэропорт Шереметьево.
Откуда я вылетал в Америку, сдав ключи от квартиры новым ее хозяевам. Из всей моей недвижимости отныне здесь оставалась только могила отца.
Я понимал, что лечу к черту в пасть, но иного пути для себя не видел. Не объяснившись с ЦРУ, затерявшись то ли в российской глубинке, то ли в стране третьего мира, рассчитывать на свое хоть какое-нибудь благополучное будущее я мог, полагаясь на исключительное везение. Прощать соскочившим агентам их вольные финты никакая секретная служба себе не позволяла, толкая меня к единственному выбору, способному сохранить мне жизнь. Был еще один способ уйти от проблем: пуля в лоб. Но Господь завещал нам воздерживаться от самоубийства как от греха смертного. Да и чьи бы аплодисменты я заслужил, нажав на спусковой крючок? Этого равнодушного ко мне мира?
Таким образом, выбирая жизнь, я открывал новый горизонт, и для меня ничего не кончалось. И первым делом мне предстояла серьезная и конфликтная игра, в которой я надеялся выиграть, дабы продлить свое существование в подлунном мире.
Во имя чего?
Вероятно, как я вполне серьезно полагал, во имя воспитания в себе нового, более совершенного человека. То есть – во имя задачи Божьей, данной нам для ее многотрудного и бесконечного разрешения.
И без этой задачи жизнь наша не стоила ничего. И в ней заключался весь смысл человеческого пребывания в бытии. По моему глубочайшему убеждению.
В Нью-Йорке я поначалу поселился у мамы, но вскоре сменил квартиру, ибо родительница преподнесла мне ошарашивающий сюрприз, связавшись с сектой иеговистов, уверовав в их постулаты и настойчиво потянув меня в их шарашку, куда уже сумела привлечь своего муженька.
Когда же я решительно отверг все ее поползновения к осуществлению вербовки, она стала мрачна, как вулканическая скала, цедила слова сквозь зубы и всем своим видом давала мне понять, что мое присутствие на территории ее местожительства категорически нежелательно.
Я откровенно, до глубокой депрессии расстроился. Свихнулась маманя! Умная, доброжелательная женщина, она еще могла хранить прежние поведенческие признаки, но душой ее руководил стылый всеразрушающий мрак, овладевший всем ее существом непоправимо и безнадежно. Боже, вразуми и спаси ее!
Хотя она-то добросовестно верила, что уже спасена духовным перерождением своим.
Так. Теперь – и мать в минус…
Я сменил квартиру, постепенно осматриваясь в новой обстановке. Естественно, позвонил Юре, сообщив о своем прибытии. И уже через пять минут он перезвонил мне, сказав, что необходимо срочным порядком увидеться.
Естественно, кто бы сомневался в такой необходимости…
Прибыл Юра не один, а в сопровождении, как я и предполагал, ответственного товарища. И то, что товарищем оказался мистер Скотт, ничуть меня не удивило. Все происходило в рамках предполагаемого мной сценария.
– Ну, хозяин, разливай за встречу, – бодрым голосом начал Юра, но тут же под долгим и выразительным взором мистера Скотта, сник, покладисто молвив: – А, впрочем, зачем я буду мешать вашей беседе? Пойду, пожалуй…
– Окажите любезность… – процедил Скотт.