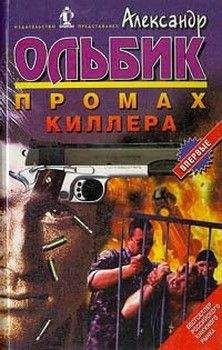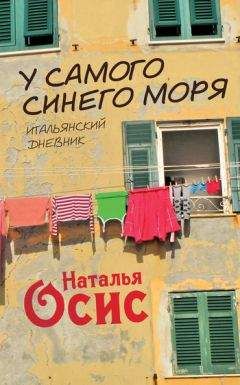Преодолевая пространство между «воронком» и дверью, ведущей в здание суда, он успел повернуть голову и разглядеть гуляющих по улице свободных людей. Краем глаза ухитрился ухватить непередаваемую голубизну неба.
Перед порогом он задержался, чтобы испить лишний глоток свободы, но его грубо подтолкнули и он шагнул в помещение, где пахло клеем и ацетоном. Шел ремонт нижнего этажа.
Его поместили в маленькую, до предела обшарпанную комнатушку, так называемый «предбанник», откуда обычно выводят в коридор, а оттуда — в зал заседаний. Он слышал, как в соседнем предбаннике, оставляя от русского языка одни руины, шла словесная разборка мужского и женского голосов. Женщина кому-то пеняла с таким надрывом, и тот, некто, отвечал ей так надсадно, что у Генки стала подкатывать к горлу тошнота. Это была до невозможности грязная пикировка. Жора Ящик по сравнению с этими двумя «трибунами» мог бы показаться рафинированным интеллигентом.
Когда подошло время, с него сняли наручники и повели на Голгофу. И не было для него более сильного удара, чем ощущение, что ты вовсе не человек, а лютый зверь, которого сажают за решетку. Ее толстые прутья отделяли его от зала, от знакомых лиц — сестер, их мужей, Люськиных родственников.
Справа, у окна — Куманьков с Рубероидом. Хари помятые, похмельные.
Кутузов смотрел на Люську, а она не сводила глаз с занимающих свои места судей.
Примерно через десять минут после начала процесса все вошло в свое рутинное русло и вскоре в зале воцарилась какая-то порочно объединяющая всех атмосфера.
Когда было зачитано обвинительное заключение, начался допрос Кутузова. Стараясь быть точным и отбросив произвольные версии, которыми он делился с Шило, Генка поведал суду правду и только правду. Однако он об этом пожалел, когда дело дошло до опроса свидетелей. Оба официанта, стараясь быть добропорядочными слугами законности и послушания, заявили, что «этого человека», то есть Кутузова, они вообще в глаза не видели…
Цыган, вызванный в качестве свидетеля, заметно нервничал и, когда расписывался под обещанием говорить правду и только правду, так волновался и дрожал, словно вот-вот должен был кончиться от болезни Паркинсона. И хотя цыган не отрицал, что двадцать пятого января он был в ресторане «Ориент», но горячо клялся и божился в том, что подсудимого Кутузова он ни на том, ни на этом свете не встречал. При этом глаза его отражали бесконечную блудливость, смешанную с изрядной порцией страха.
Слово взяла адвокат Кутузова.
— Господин судья, прошу вас обратить внимание на показания другого свидетеля — швейцара Романовского, который в тот вечер видел, как свидетель Бабкин Роман заходил в туалет как раз в тот момент, когда там избивали Кутузова.
Однако швейцар заболел и на суд не явился.
Когда начали давать показания Куманьков с Рубероидом, Генка понял: его со всех сторон обложили красными флажками, из-за которых ему не выбраться.
Куманьков, не моргнув глазом, врал напропалую. И выходило, что не Бычков, а Кутузов стряхивал пепел в его бокал, и это Кутузов ему сказал, что если он, Бычков, не уберется из-за стола, то он, Кутузов, выколет ему глаз.
Рубероид пошел еще дальше: это Кутузов, утверждал он, трижды наливал себе коньяк из их бутылки. И когда Бычков хотел его остановить, Кутузов вытащил тесак и ударил им Бычкова.
Адвокат — судье:
— Я хотела бы, чтобы суду было предъявлено орудие покушения, которое инкриминировано моему подзащитному.
Последовало легкое замешательство. Судья сперва наклонился к одному заседателю и что-то тому сказал, затем — к другому.
— Перочинный нож, которым был ранен Бычков, к сожалению, утрачен, что, однако, не исключает доказательности его использования.
— Я так не думаю, господин судья, — возразила адвокатша. — Отсутствие в деле главной улики свидетельствует об одностороннем и неполном расследовании данного уголовного дела. В деле также нет протокола изъятия упомянутого ножа, а это уже наводит на мысль, что его вообще не существует в природе.
Генка смотрел на бритоголовых Куманькова и Рубероида и понимал, что это только начало. И он решил их завиральным показаниям противопоставить свои, не менее завиральные. Поэтому, собравшись, он твердо отчеканил:
— В тот вечер, когда меня ни с того ни с сего забрали в полицию, я готов был признаться даже в том, что всю прошлую неделю по моему распоряжению шел в Латвии дождь… Мне сказали: если я признаюсь, что у меня был нож, меня отпустят домой. На самом деле у меня не было никакого перочинного ножа.
В зале наступила напряженная тишина.
Генка взглянул на адвоката и в ее черных глазах прочел недоуменное одобрение.
— Тогда разрешите поинтересоваться, с помощью какого предмета и кем был смертельно ранен Бычков? — спросил Кутузова обвинитель.
Генка наивно пожал плечами.
Потом показания давал Шорох.
— Когда я танцевал с госпожой Кутузовой, к нам подошел этот человек и начал угрожать. Спросите об этом Людмилу Кутузову.
И Люська… Его бесподобная Люська, на которую он так надеялся как на Бога, вдруг опять заюлила задницей. Она бледнела, краснела и несла какую-то невнятицу.
Генке хотелось крикнуть ей: «Ну что же ты, Люся, не скажешь уважаемому суду правду? Или ты забыла, как эти подонки над нами измывались, какие гадости они тебе говорили, как этот Шорох послал меня за частокол трех букв?»
А Люська между тем что-то мямлила насчет того, что ее муж очень добрый человек, герой, ликвидатор и что, если на то пошло, то он не только человека, но и букашки не обидит… «Я ничего плохого не могу сказать о господине Шорохе, но сидящие с нами за столом парни вели себя вызывающе…»
«Ага, Люсек, значит, про Шороха ты ничего плохого сказать не можешь?» — кипел от возмущения Кутузов. Он готов был вцепиться в решетку руками и зубами, только бы снять с души боль. «Выгораживает ведь этого хряка, выгораживает», — психовал он и, словно школьник, тянул вверх руку, прося слова. Но его проигнорировали.
И шансы Кутузова на спасение стали таять, как весенний снег. Его защита вдруг попросила слова. Адвокат назвала имя свидетеля, который в тот злополучный вечр находился в ресторане «Ориент».
В зал вошел солидный человек с шикарной шевелюрой, в которой уже вовсю цвела седина. Представился: Артур Ацалянц. Он говорил с сильным акцентом, но ударения ставил правильные.
— Я здесь ни в чем не заинтересованный человек, поскольку приезжий и ни самого подсудимого, ни потерпевшую сторону не знаю…
— Свидетель, говорите конкретно, — попросил судья.
— Я коротко… Когда я, справив небольшую нужду, мыл руки, в туалет вошел этот человек, которого теперь все называют Кутузовым и который является подсудимым. В туалет зашли еще двое, — Адалянц указал рукой на рядом сидящих Куманькова и Рубероида. — Эти молодые люди без слов начали избивать Кутузова. Один из них его держал, а другой бил, как бьют боксеры боксерскую грушу. Потом они бросили Кутузова на пол и несколько раз ударили его в пах и по голове. Один из нападавших, схватив подсудимого за волосы, стал лицом возить по полу, а потом — по писсуару. Я им сказал, чтобы они это дело бросили, но они у меня спросили — давно ли меня не трахали в одну место?
— Достаточно! — взмахнул рукой судья. — Ответьте, свидетель, в том эпизоде, о котором вы только что рассказали, кто, по-вашему, был нападавшей стороной?
— Однозначно, агрессорами были эти двое, — жест в сторону Куманькова и Рубероида. — Я, господин судья, пережил землетрясение в Спитаке и с тех пор ничего и никого не боюсь… Будь я на месте Кутузова, я бы этим молодцам устроил бы маленький геноцид…
— Остановитесь! Довольно! — судья вытянул руку. В своей широкой мантии он походил на римского трибуна, выступающего в сенате.
Когда Генку выводили из зала заседаний, чтобы после небольшого перерыва зачитать ему приговор, он увидел свою Люську, стоящую в коридоре рядом с Шорохом. Ему показалось, что они о чем-то любезничают. Однако, заметив его, она встрепенулась и направилась в его сторону.
— Ген, я хочу тебе передать сигареты…
Но Кутузов уже был в конце коридорчика, откуда его втолкнули в «предбанник». Там уже было тихо. Конфликтующие голоса куда-то исчезли.
Генка был возбужден и вместе с тем доволен. Он понимал, что у него появился брильянтовый свидетель, которому не верить просто нельзя.
Ему принесли супчик, и он хлебал его и слушал, как за дверью один полицейский рассказывал байку другому полицейскому: «Идем с братом, навстречу — с фотоаппаратом, думаем: снимут… Сняли: с брата часы, с меня шапку. Идем дальше. Навстречу автомобиль, думаем, свернет. Свернул: брату — шею, мне — ноги… Лежим в больнице: думаем — выпишут. Выписали: мне костыли, брату — гроб…»
Однако полицейский фольклор не отвлек его от тревожных мыслей о Люське. Ему не нравилась ее податливость. Понемногу, в мыслях, он перенесся в какие-то заоблачные выси, далеко улетев от облупленных, смердящих казенщиной стен и голосов полицейских.