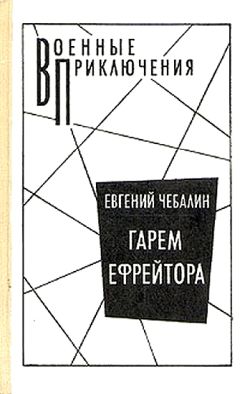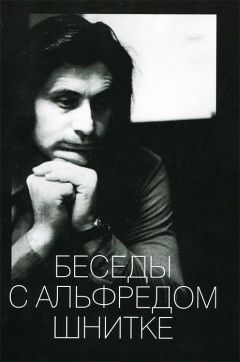Районная милиция сбилась с ног: жалил насмешками со всех сторон трудовой, из России переселенный люд, всыпало по первое число городское начальство.
Со временем, к самой весне, остервенилась вороватая сила до предела: стали пропадать целые гурты овец, а с ними исчезали и русские пастухи, коих находили потом оскопленными, зверски изрезанными, с содранной кожей на спине, со вспоротыми животами.
Дубов, недавно принявший райотдел милиции, забыл про сон. В злой одышке, без продыху плел сети из засад и облав. Тянул их на себя — сеть приходила пустой.
В ночь с марта на апрель из конюшни колхоза у председателя Надежды Дубово/4 пропали две лошаденки В яслях, на нескормленном сене, лежал клочок оберточной бумаги с корявым карандашным автографом. Бабий вой сутки висел над селом.
Председательша баньку к ночи затопила.
«Да г-господи, что ж никого не кликнула на подмогу?» Бабы снарядили к баньке пятерых самых проворных с веничком, мочалкой, кваском.
Явились гуртом, протиснулись в предбанник и обомлели: сидела их председательша сиротой на лавке. Глаза бездонные, в пол-лица, руки меж коленей повисли, жилами набухли.
Бабы разохались. Трофимовну раздели, повели под руки в парилку. Будто куклу вели. Отшутилась она через силу:
— Не той рукой обнимаете, бабоньки. Нам бы щас что покрепче, поволосатее.
Повздыхали бабы: какой мужик позарится на безлошадную артель, когда свои, родимые, с фашистом схватились. Принялись мять, растирать председательшу в парилке. И начала Надежда оживать. Лицом разалелась в каленой, квасной духовитости.
После этого взялись обхаживать ее бабы в предбаннике. Сидела председательша на лавке русалкой. От тела — переливы жемчужные, грудки розовой твердостью выперли, волосы пшеничным водопадом всю спину облили, а вокруг головы…
Присмотрелась одна из баб, заблажила со страху:
— Х-хосподи! Глянь-кось, что это над ней?
— Тю на тебя! Где?
— Над головой… ровно сияние!
Присмотрелись и попятились от Надежды. В парной полутьме предбанника над головой Надежды обозначилось нечто… Мерцал отчетливо радужный нимб.
— Трофимовна, королева ты наша, над тобой че деется? Ой, бабы, как у святых на иконе! Ох-хо-хонюшки-и-и… И где ж мужики наши, воители, красоту такую приголубить, пригреть некому, че война, сука, наделала!
И тут будто очнулась Дубова. Вскрикнула подстреленной журавлихой, сползла с лавки на пол, распласталась крестом.
Выташнивая из себя гадючую тоску-сомнение насчет украденных лошаденок, зашлась в плаче, ударила по горячим доскам кулачками:
— Не мог он… Не мо-о-о-ог!
Встряхнуло от удара баньку, содрогнулась печь, тугим рокотом отозвалась под полом земля. Бабы взвизгнули, прянули к двери. И еще раз ударила председательша в пол. Прыгнули угли в печке, посыпался росяной дождь с потолка. Скрипнув, черным клыком выперло из стены бревно, запустив в дыру ледяной сквозняк.
Била в пол женская невесомая рука, но будто стопудовым молотом отзывались эти удары. Криком кричала ее душа, раздавленная бумажонкой, что оставил вор в яслях вместо украденных лошаденок. Расползлись по оберточному клочку карандашные каракули, крапивой жгли два слова: «Апти-абрек».
Со всех сторон сочился, обволакивал его чистый, пронзительный звон. Земля била Апти тычками снизу, в спину. Задыхаясь в тревоге, он стал выдираться из цепких объятий сна.
Очнулся, сел, дико озираясь в темноте. Земля под ним мерно подрагивала, с потолка сыпалась невидимая каменная крошка. Звон серебряного тона шел откуда-то сверху, затопляя гулкое чрево пещеры.
Апти встал. Пошатываясь, лапая на ощупь шершавый гранит, побрел к фонарю на стене. Зажег его. Яичный желток света расползался по стене. Поднял фонарь. На колышке, вбитом в щель, качалась подкова с ноги белого жеребца. Она ударяла о каменный выступ стены, посылая к Акуеву звенящие пульсары тревоги.
Апти крепко потер лицо: баран! Сколько времени потерял! Это она звала. Он ей нужен! Повесил фонарь. Рывками натянул бешмет, накинул бурку. Сдернул с колышка уздечку, притиснул к боку седло. Кинулся к выходу.
Добрался до аула, к сакле председательши, незадолго до полуночи. Исхлестанный Кунак устало отфыркивался, густо парил. Апти завел его за жерди ограды, виновато обнимая за шею, нашептывая на ухо:
— Я виноватый, Кунак, я дурной, виноватый ишак.
Луна стояла в зените, и их куцые тени волочились по искряному насту.
В белесую смутность стены врезался желтый квадрат окна: хозяйка еще не спала. Апти облегченно, неистово передохнул, повел Кунака к сараю. Там выдернул из кормушки пук соломы, насухо обтер коня, накинул на него бурку, забросил поводья на кол.
Вышел во двор. Стена дома была уже серой, без желтого квадрата. Он подошел к окну, поднял налившуюся чугуном руку, постучал, стал ждать.
В сакле приглушенно скрипнула половица. Голос Синеглазки спросил:
— Кого принесло?
Апти шагнул к крыльцу. Поднялся на ступени, кашлянул, вполголоса сказал:
— Апти это. В гости тибе пришел.
За дверью невнятно всплеснулся то ли всхлип, то ли стон. Брякнул крючок, дверь распахнулась.
— Заходи, гостенек, коли пришел, — позвали из сеней.
Он ступил через порог, трепетавшими ноздрями тоскующе вдохнул памятный, пряный запах домашнего уюта. Пошел вдоль стены. Наткнулся на лавку, сел.
Чиркнула спичка. Зажглась лампа, осветила Синеглазку в блеклом ситчике. Она села напротив, на табуретку, сунула ладони меж коленей. Молча смотрела на гостя. Свет тек из-за ее спины, плавился в пушистом ворохе волос.
— Ну, абрек, рассказал бы, че ли, чем занимался.
— Спал в пещере, — сказал Апти. Наползала на душу едучая тревога: что-то не так складывалась, начиналась встреча. — Думал, беда случилась. Кунака сильно обидел, плетью бил. Думал, тибе нужен, ехал быстро. Звала?
— Как не звать, — едким напевом отозвалась женщина. — Все слезы лила, куда ж кавалер задевался, никак черти с квасом съели. Глядь — явился, не запылился. Отощалый, шкилетной комплекции. Никак оголодал? Иль работенка высушила — по чужим шифоньерам да катухам шарить?
— Плохо говоришь. Не понимаю, — качнул головой Апти, загоняя внутрь кричащий свой ужас от совсем чужой теперь женщины.
— Как друг дружку понять? На разных языках говорим, разные дела делаем. Ступай поищи понятливую.
Никогда еще не было ему так страшно. Надо вставать с лавки, идти под мерзлую луну. Этот теплый свет из-за женской спины, эта домашняя обжитость останутся здесь. Дверь отрубит все это от сердца топором. Если ей не нужен — кому нужен? Останется ветряная стынь, камни, кабаны, вой шакалов. Зачем с ними жить?…
Он стал подниматься.
— Погоди, — тихо, с мукой попросила женщина. — Не задержу долго. На один вопрос ответь. Зачем тебе барахло людское?
— Не понимаю, — тоскливо сказал Апти.
— Зачем людей грабишь, скотину последнюю у них уводишь? — надорванно крикнула Надежда.
— Тибе какой собака это брехал? — в великом изумлении сказал Апти.
— Подожди… — взмолилась Дубова. — Одно скажи: как ушел тогда от меня, обидел кого лихоимством?
— Кого? — рявкнул, ощерился Апти. — Тебя мог обижать? Старика на деревянный нога, который кричал: танка наша быстра? Женщина, который плуг вместо жеребца тянет? Голодный ребятишка, их обижал? Кого? У тибя мозги есть, на меня такой черный слова мазать? Ты… ты… баба! Мужчину убивал бы!
Пошел к двери.
— А это что?
Он обернулся. Надежда держала в протянутой руке лоскут бумаги. Апти вернулся, взял бумагу. Увидел: «Апти-абрек».
— В кормушке нашли. Лошаденок наших увел. И расписочку оставил, — рвался голос у председательши. — Шибко аккуратный гость наведался. Ну что мне думать прикажешь? Верить не хотела, не могла на тебя думать, пока вот об это не ожглась.
— Саид, — обессиленно выдохнул Апти. — Яво дело.
Подставлял побратима Саид, в лапы милиции толкал со всеми потрохами, изобретательно. Напоминал о себе хвост отгрызший.
— Так не ты писал, че ли? — взмолилась, втиснулась в напряженную думу абрека Надежда.
Долго смотрел на нее Апти.
— Хлебом клянусь, — сказал наконец. — Тобой, Надя, клянусь. Сапсем с ума сходил без тебя. Как могу твоим людям обиду делать?
— Дак че же не приезжал? — горестно спросила она.
— Боялся, — сокрушенно признался Апти.
— Господи, кормилец ты наш трусохвостый! Меня-то за что измучил? Я все глаза проглядела… ждала!
— Зачем ждала? — дико, исподлобья глянул абрек.
Встала Надежда, неистово полыхая синевой глаз.
— Затем и ждала, чтобы… накормить. А там и приголубить, коль… заслужишь.
И, шагнув к Апти, не совладав с собой, обняла, прильнула к долгожданному, очищенному от коросты подозрения.