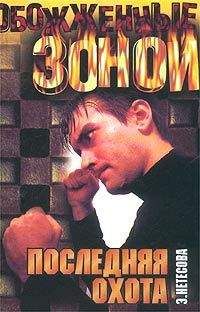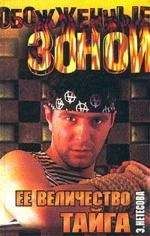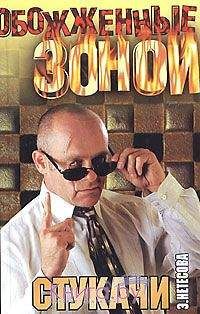Но Шмель кайфовал, глядя, как напарник рвал кишки, как, по-медвежьи облапив ствол, тряс его, словно в нем общак «малины» занычен. Волком выл от досады. А фартовый изгалялся:
— Что, падла, кишка тонка? Не по зубам? Ты тут все пятки обгадишь, покуда ее уложишь. Эх, мудила жалкий! Куда вам с нами пахать? Брысь, козел! Дай я! — резанул по стволу навстречу спилу. И дерево пошатнулось, грохнулось головой в распадок.
А там сучкорубы новых впрягли. Поставили впереди себя и гнали, как зайцев. Грозили топорами мошонку отсечь. Попробуй пойми, шутят иль правду говорят? С этих станется. Сомнений нет.
Там сучьи дети со стороны за фартовыми наблюдали. Знали — обламывали воры новых. Без того нельзя. Все через эту закалку прошли. Живы остались. С неделю, верно, жизнь не мила будет. Зато быстрее втянутся. Работа эта лучше слов спесь сгоняет, выбивает топор напрочь. Кует характер живучий, выносливый.
— Хиляй шустрей, Тип! Да ты куда, падла, вылупил зенки? Окосел, что ли, паскуда вонючая?! — Шмель схватил измотавшегося мужика в жменю и толкнул носом в сосну. — Стой, пидер облезлый! Держи ствол, чтоб не шатался! — заорал так, что тайга оглохла;
Сучьи знали: не надо держать ствол. Пила его и так срежет за милую душу. Но это будет потом. Сейчас притирка шла. Тут без ломки не обойтись. Она как воздух…
— Держи! А не держись, хорек! Иль вовсе съехал? — вопил Шмель, и мужик, выпучив глаза, вцепился в дерево едва ли не зубами, как в собственную корявую судьбину. Только бы не выпустить, не уронить.
Чуть выше Рябой напарника захомутал. Широкого, крепкого мужика. Изощренно изгалялся:
— Разверни хлыст от катушек. Скати вниз.
Мужик схватил спиленное дерево за комель. Не только сдвинуть, приподнять не смог. Его бригадой не одолеть.
— Чего расплылся? Шевелись!
Спина хрустела. Дрожали, тряслись руки. Кажется, еще немного и выскочит нутро следом за надорванным серд-
Руки в кровь сбиты, в ссадинах. Ладони подушками вспухли. Даже глазам больно, из орбит лезли. А Рябой знай себе:
— Убери ту корягу, а то к дереву не подступиться.
И снова рвал мужик тяжесть из земли. По лицу то ли пот, то ли слезы бежали вперемешку со злой грязью.
— Чего раскорячился? Вбивай клин, мудак! — рычал Шмель на своего напарника.
Тот, промахнувшись, себе по пальцам угодил. В сапогах сыро стало. Завопил не своим голосом. А бугор будто не видел. Обложил матом и подгонял. У мужика из глаз снопы искр летели. Да кому пожалуешься? Осмеют…
Новые сучкорубы паром изошли. Разогнуться некогда. От, дерева к дереву бегом. Топоры приросли к ладоням. Ноги и те враскорячку. Сдвинуть невозможно. Голова гудела от шума, кровь в висках стучала. А фартовым — все мало. Словно решили за день всю тайгу под корень извести. Заодно и новых. Все силы из них вымотать.
Разъезжались ноги на сырой глине. Тут без груза пройти мудрено. Сколько раз падали — теперь не счесть. Фартовые над этим хохотали. Охрана и сучьи дети молчали.
Всему есть конец. Придет он и этому дню. Только бы дождаться, только дожить, стучали топоры, сердца…
— Убери хлыст, зараза! Чего вылупил буркалы? Живо! — орал Шмель.
Напарник поднатужился, сдвинул. И упал лицом в грязь.
— Сачкуешь, прохвост, задрыга! Коленки сдали! В бок тебя бодали, шкура облезлая! Шустри, свинота!
Напарник задыхался. Он молчал. Старый кряжистый мужик из новых поспешил ему на помощь и нарвался:
— Ты куда возник, плесень лягушачья? А ну, вали отсюда, пенек гнилой, покуда не расколол до самой жопы! Хиляй, бо- таю тебе, падла! — попер на старика бугор.
Тот не уходил. Выпрямился. Топор ухватил покрепче:
— Чего над человеком изгаляешься, зверюга? Сам сдвинь! Иль ослеп, не видишь, ослаб вконец.
— Ослаб, пусть сдохнет! Твоя срака чего воняет? Линяй, покуда не нарвался!
— Не дери глотку! Я старше тебя!
— В своей хазе бугри! Тут тебе не с бабой! Сгинь, перхоть! — , замахнулся кулаком. У старика от удивления челюсть отвисла. — Валяй по холодку, добром трехаю! Не доводи до греха! — схватил Шмель старика за грудки и отшвырнул в сторону.
Тот коротко охнул, ударившись спиной о ствол.'И словно по команде, налетели новички на бугра со всех сторон. С кулаками, топорами на фартового накинулись.
Охрана тут же вмешалась. Расшвыряла с бранью, окриками. Не дремали и фартовые. Покуда охрана подскочила, успели в зубы насовать.
За беспорядки на работе в этот день новых оставили без обеда и отдыха. Когда фартовые пошли к палаткам, пополнение под надзором охраны работало без роздыху. Многим из них казалось, что этому дню не будет конца-. Когда вернулись условники на деляну, в распадке лежали три пачки хлыстов.
Шмель был доволен, но вида не подал и снова впряг напарника в работу до упаду. Тот и не ожидал передышки.
Оклемавшийся старик работал вместе со всеми сучкорубами. Он смерил фартового недобрым взглядом, словно задумал злое. Шмеля это только рассмешило. Он отозвал в сторону Читу, что-то шепнул ему, указав взглядом на старика. Фартовый осклабился и поставил деда впереди себя обрубать сучья, ветки.
Через час старик, вымотавшись, ткнулся головой в грязь. Не выдержал бешеной гонки, заданной фартовым. В глазах помутилось, не стало дыхания, вывалился топор из рук.
— Что? Пердун отдыхает? — вылил на него ведро воды Шмель. И, перешагнув через старика, приказал: — Дай ему по салазкам, чтоб не сачковал.
Чита тут же врезал изо всех сил суковатой веткой по подошвам деда. Тот вмиг очнулся от боли. Встал.
— Вкалывай, падла! Лежать на том свете будешь! Пока дышишь — паши, — сказал бугор, улыбаясь, как кенту. Бледное лицо старика перекосило от боли и злобы. — Проссысь, полегчает! — бросил Шмель через плечо и пошел к напарнику. — Тип, ты почему клопа не давишь?! — заорал он, увидев, что тот курит. Мужик вмиг вскочил. И побежал за Шмелем побитой собакой.
Дождь вымочил людей до нитки. Но работа в распадке не прекращалась ни на минуту. И лишь когда совсем стемнело, Шмель крикнул:
— Шабаш, мужики!
Дважды эту команду повторять не пришлось. Топоры, чекеры, тросы и клинья сами из рук попадали. Условники серой цепью возвращались к палаткам. Сучьи дети, тихо переговариваясь, чуть приотстали от всех. Охрана их не торопила. Плотно окружила пополнение, чтобы бузы не вышло. Но новым было не до того.
Многие, придя к палаткам, отказались от ужина: едва прилегли, тут же уснули тяжелым усталым сном.
И только Шмель не успокоился. Отыскав среди уснувших напарника, поднял окриком, погнал умыться и поесть. У того ложка из рук выпадала, застревал в горле кусок, а бугор, подкладывая в мйску пшенную кашу, приговаривал: дог
— Хавай, дура! Сегодня только разминка была. Настоящая пахота — впереди.
Мужика от этого успокоения икота одолела. Стало жаль самого себя. И почему-то тоска напала.
— Чего скис, Тип! Ты давай, набивай пузо! На пустое — ни хрена не сможешь вкалывать.
Мужик потянулся за чаем. Кружка выпала из рук, кипятком ошпарил колено.
— Лопух приложи. За ночь пройдет, — посоветовал бугор и спросил: — В полицаях долго кантовался?
— Полтора года. Потом сбежал. От своих и немцев.
— Чего ж так?
— Наши наступать стали. Я узнал и ходу. А когда война откатилась от наших мест, меня поймали. И все…
— Чего в полицаи подался? Жрать хотел жирно?
— Какой там жрать? У меня отца раскулачили в этом селе. Коммунисты. Босяки голожопые. Всю живность с подворья увели, кроме собаки. Зерна на посев, картошку на семена не оставили. Подчистую. Даже хлеб из печи забрали. А нас пятерых бросили с голоду сдыхать. Мать в ту зиму умерла. А отца забрали. Так и не сыскал его следов. Ну вот и вернулся я в село. В войну. Сам к немцам пришел. Сказал все. И о том, что скрылся от мобилизации. Что всех коммунистов знаю в морду. И за полгода сыскал каждого, кто мою семью ограбил. Всех своими руками к стенке ставил. А детвору — в Германию. Чтобы, выросшая, добила бы выживших нечаянно своих же родственников.
— Вон оно что! А я думал, что с жиру за куском погнался, — покачал головой Шмель.
— Твою семью ограбили? А только ли ее? У меня троих сыновей в родном доме, где родились, всех уложили. Дочку ссиловали. Бабу повесили. Меня измордовали. Заставили смотреть на зверство ихнее. Чтоб с горя я подох. Да вот не вышло у них это. Не свихнулся даже. Хотя три дня связанный валялся в доме. Покуда родня ночью прийти насмелилась. Развязали. Уйти уговорили из села. Я ушел. За границу. Вернулся с немцами. Что же, я должен был руки убийцам целовать, по-твоему? — побелел лицом проснувшийся старик и продолжил: — Хлеб посеять можно, хозяйство — нажить, здоровье — поправить. А вот детей с могилы не поднимешь. Я не за зерно, не за корову и свиней, за детей своих отомстил. Всем! За испозоренную дочь, какую скопом силовали. Комсомольцы, чтоб их… А ведь когда ловил их, руки целовали, сапоги. Прощения просили, сдыхать не хотели. Молили о пощаде. А они моих сынов пожалели? С чего ж я их щадил бы? За что? Семья была! А сиротой на весь свет оставили. И я не простил. Даже когда матери этих иродов ко мне пришли, тоже не стал слушать, а сделал, как со мной. На их глазах кончал, — трясло старика от воспоминаний. — Раздевал догола серед села. На лютом холоде. И хлестал их кнутом до костей. Покуда сплошной лепешкой не становились. Иных, кто над дочкой издевался, на куски пустил. Изрубил топором, как туши разделывал. И к ногам тех, кто их на свет произвел… Всякому своего жаль. Они меня зверем звали. Сами таким сделали. Чего ж на меня обижаться было? Иль себя не узнали? — усмехнулся старик. — Я ни о чем не жалею. Свое пожил. Были радости. Когда-то. В основном — горе. Но и его одолел. Отплатил всем обидчикам. За свое. И повторись, то же самое утворил бы. Меня потому и не расстреляли, что я не за харчи и скот, за детей мстил. Мне политика без нужды. Я в ней не смыслю. И за нажитое не держался. И немец мне до задницы был. Свое болело. Потому, когда судили меня, вся деревня подтвердила, что не брешу я.