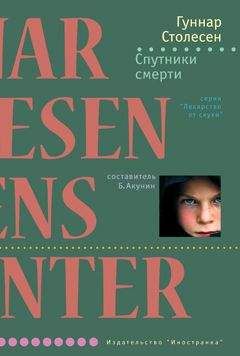— И ты два дня мучился этой мыслью, а потом решил заявиться ко мне?
— Не через охрану же передавать.
— Что же заставило тебя «чистосердечно признаться» именно сейчас?
— Так получилось… Вы ведь ее еще не обнаружили?
— А у тебя небось и соображения есть, где она может находиться?
Мы секунду глядели друг другу в глаза, а потом я сказал:
— Нет…
— Ты кое о чем не догадываешься, Веум, — перебил он и смерил меня торжествующим взглядом.
— Да?
— Она дала о себе знать.
— Фру Скарнес? Когда?
— Сегодня утром, как заявил ее адвокат, господин Лангеланд.
— Да уж понятно, — пробормотал я.
— Ее в данный момент допрашивает инспектор Люнгмо.
— Допрашивает? Так, значит…
— Да, Веум. Ничего нового ты не сообщил — она уже практически призналась.
— Призналась? — Я с трудом понимал, что происходит.
— Да, — ответил он с некоторой заминкой. — Ты что, плохо слышишь? Она заявила, что столкнула мужа с лестницы во время ссоры. Защита, естественно, будет настаивать на непреднамеренном убийстве в целях самообороны. Расследование мы, конечно, продолжим, хотя можно считать, что дело уже раскрыто. Для тебя-то наверняка ничего удивительного в этом нет, учитывая, какую новость ты нам принес. «Это сделала мама» — так ведь он сказал?
— Да… Но, раз уж она призналась, меня это, пожалуй, больше не касается.
Он насмешливо приподнял одну бровь — и это было самым ярким проявлением чувств, обуревавших его в течение разговора.
— Точнее и не скажешь, уважаемый!
— А вы знаете, что у него есть еще и родная мать? Скарнесы его усыновили.
— И кто же она? — спросил он, награждая меня уничижительным взглядом.
— Метте Ольсен. Гражданская жена вашего старого знакомого, Терье Хаммерстена.
— Хаммерстена? А она…
— И раз уж я здесь, я бы хотел…
— Нет уж, позволь, не перебивай! — Он раздражался все больше. — Она что, тоже призналась?
— Нет. Разумеется, нет.
— Вот именно! — Он откинулся на спинку стула. — Знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь? Этих засранцев из американских фильмов, которые трутся где попало и считают при этом, будто они чертовски круче полицейских.
— Их, значит, напоминаю?
— Ага. Так что не будешь ли настолько любезен убраться отсюда как можно скорее? У нас тут есть дела поважнее, чем частное мнение представителя службы охраны детства.
— У охраны детства тоже найдутся дела поважнее.
— Не сомневаюсь. Будь здоров. Надеюсь больше никогда тебя не увидеть.
К сожалению, он ошибся. К сожалению для нас обоих. Много позже я часто думал о том, не в тот ли самый раз меня впервые посетила мысль, что все пошло по ложному пути. С самого начала. Но я ему об этом никогда не напоминал: слишком долгий бы вышел разговор.
В тот же вечер, в девятом часу, раздался звонок в дверь моей квартиры. Я открыл дверь — на пороге стояла Сесилия. Она была тщательно накрашена и одета в короткое темное пальто, в котором я прежде никогда ее не видел. Она протянула небольшой пакет:
— Я прихватила бутылочку красного. Пустишь?
Двадцать лет спустя, сидя на скамейке на Фьелльвейен, она спросила меня, смущенно покраснев:
— А помнишь, Варг, ведь между нами тогда кое-что было?
— Неужели нет, — криво улыбнулся я.
Да, я помнил то, что она решила обозначить словами «кое-что». Помнил привкус железа в красном вине, которое она принесла с собой в тот четверг в семьдесят четвертом, когда дело, казалось, было почти закрыто, а Ян-малыш был помещен в клинику; чуть позже — тот же вкус на ее губах, ее крепкое маленькое тело, которое извивалось подо мной и наклонялось, когда она была сверху, такое живое и непослушное, что я то и дело упускал его из рук, как неопытный слесарь-сантехник, выполняющий первый самостоятельный заказ, свой инструмент. Она целовала меня крепко и решительно, и я чувствовал, что она нисколько не колеблется и точно знает, чего хочет. Мы с ней решили, что так мы отпраздновали окончание дела. Позже мы еще «праздновали» два или три раза, но слов для этих воспоминаний я так и не смог подобрать — все они словно утекали в песок, так что мне остались лишь мелькающие картинки перед глазами, которые как из засады выскакивали, если я когда-нибудь пил такое же вино.
Да, я ничего не забыл. А в тот год произошло много страшных, ужасающих событий.
Расследование закончилось тем, что Вибекке Скарнес было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и ее дело было отправлено в окружной суд, где ее с большим жаром защищал Йенс Лангеланд.
Я присутствовал на одном из заседаний — слушание дела продолжалось несколько дней — и остался под большим впечатлением от напора Лангеланда. Он с жаром доказывал, что Вибекке Скарнес терпела до последнего: перед судьями был нарисован гораздо менее радужный портрет Свейна Скарнеса, чем тот, что сложился в моем воображении после беседы с Ранди Борг. Лангеланд вытащил на свет тяжелую ситуацию, возникшую, когда в семью был взят приемный ребенок с нестабильной психикой, который требовал много внимания. Вибекке Скарнес заявила, что ее супруг, часто беспричинно, раздражался на то, что в доме стало беспокойно, сопровождая это рукоприкладством. Одна из таких безобразных сцен и закончилась его фатальным падением с лестницы. На слушании Лангеланд доказывал, будто она действовала лишь в целях самозащиты и оттолкнула супруга, чтобы тот не ударил ее. Вибекке также заявила, что Скарнес неоднократно был жесток с их приемным сыном.
Со стороны обвинения их ждало сильнейшее сопротивление: свидетели, которых специально вызвали в суд, чтобы они поделились своим мнением о Скарнесе, в один голос твердили, что он был славный малый. Никто и никогда не замечал ни малейшего намека на жестокое обращение с женой или с приемным сыном. Никто не понимал, что могло привести эту семью к такой страшной трагедии. Ранди Борг была более скромно одета, чем в день нашей встречи, и дала Свейну Скарнесу самую восторженную характеристику. Так что Лангеланду пришлось если не заявить открыто, то довольно прозрачно намекнуть на то, какие отношения могли связывать секретаршу и ее распрекрасного шефа. Он быстренько свернул эту тему, но я заметил, что судьи засчитали очко в его пользу.
Суд тем не менее не был до конца убежден, что падение с лестницы произошло в результате несчастного случая. Несмотря на все смягчающие обстоятельства, Вибекке Скарнес вынесли обвинительный приговор: два с половиной года за непредумышленное убийство. Апелляции обеих сторон ничего не изменили. Я присутствовал при вынесении приговора и покинул зал суда с тяжестью на сердце, успев на прощание кивнуть Вибекке Скарнес.
Яну-малышу после срочной госпитализации в Хаукеланд назначили лечение — Марианна Стуретведт назвала его заболевание: «реактивные нарушения аутического спектра». Осенью 1974-го по инициативе Ханса Ховика его отдали новым приемным родителям в Суннфьорд. Жизнь в сельской местности посчитали для мальчика лучшим средством, которое могло помочь ему выработать навыки социализации и начать нормальное существование в обществе.
Мы с Сесилией по возможности следили за тем, как складывались его дела, все те полгода, пока он проходил лечение. Мы брали его с собой в походы на Гейтанюккен и другие горы в Осане и округе. В компании экологов мы ездили с ним на рыбалку по фьордам. Однажды в июне мы поехали купаться в Воллане, и я помню — отчетливо — Сесилию в довольно откровенном бикини, белом в зеленый горошек, и как верх ее купальника топорщился после ныряния в холодную воду. После этой поездки у нас с ней состоялось еще одно «празднование» в узком кругу — у меня на Тельтхюссмёэт. Но лето тогда выдалось пасмурное и дождливое, так что больше мы купаться не ездили.
Мы были как семья — правда, между собой у нас были немного натянутые и отчужденные отношения, но так, наверное, часто бывает в семьях с больными детьми. Я помню, как однажды сентябрьским вечером, после того как мы вернулись из поездки в Аквариум, нас с Сесилией пригласил к себе в кабинет Ханс Ховик. Он рассказал, что нашел для Яна-малыша родителей в Суннфьорде и собирается сам его туда отвезти на следующий день. Я едва нашел в себе силы посмотреть в глаза Сесилии: Ян-малыш был как будто наше собственное дитя, наш трудный ребенок. И, наверное, именно из-за разлуки с ним у нас случилась всего еще пара-тройка «празднований» — и всё. Я помнил и отъезд Яна-малыша в Суннфьорд тем прекрасным сентябрьским днем.
Я помнил, как он за полгода из безучастного маленького мальчика, которого мы встретили в тот страшный день, превратился в шумного, активного — иногда даже чересчур — пацана. Ему непросто давалось умение остановиться, почувствовать границы дозволенного. Иногда он, казалось, нас специально провоцировал, пытаясь вызвать в нас раздражение и даже отвращение, чтобы мы ему что-нибудь запретили, — это была, как нам сказала Марианна Стуретведт, типичная реакция ребенка с ранними психологическими травмами. «Ну и что нам делать?» — спросил я ее. «Надеяться, что терапия поможет, — ответила она с легкой улыбкой, — и что он научится контактировать с миром взрослых, соблюдать рамки приличия и вообще научится жить». Мы с Сесилией согласно кивнули и поблагодарили, но вышли из ее кабинета такими же несчастными и встревоженными, какими пришли.