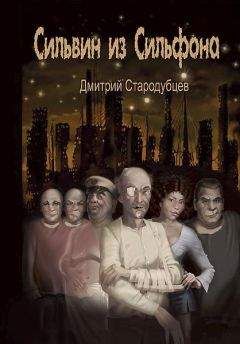Люди из записной книжки Германа продолжали вести свой размеренный, десертный образ жизни: хохлиться в своих кабинетах, баловать любовниц на коралловых побережьях, выбирать в автосалонах перламутровые автомобили, открывать счета в расплодившихся банках, возводить обетованные хоромы за городом, а тем временем над их головами сгущались тучи. Им, несчастным, и в голову не могло прийти, что некий сумасшедший гений, наделенный невиданным даром, внимательно изучает их фотографии, вгрызаясь в глаза — вскрывает, словно консервную банку, их мозги, и по-хозяйски копается в них, выуживая самые подноготные, самые заповедные, самые тщательно скрываемые тайны.
Герман теперь всегда знал, что предпримут его конкуренты в следующую минуту. Стоило только на другом конце города кому-то обмолвиться о нем, как он немедленно об этом узнавал и, если надо, предпринимал решительные меры. Впрочем, Герман не был тонким комбинатором: вместо того, чтобы плести черные заговоры, опутывать врагов липкой паутиной интриг, он чаще поступал прямолинейно и абсурдно. Даже владея самым опасным в мире оружием, он иногда проигрывал, потом злился, напивался, начинал бушевать и, в конце концов, вымещал дурное настроение на Сильвине, обвиняя его в неточности предсказаний или в прямой дезинформации.
Кулаки Германа вновь стали прохаживаться по лицу и телу его жильца, да так, что появлялись новые синяки и лопались старые раны; несколько раз Мармеладка, которая теперь почти прописалась в комнате Сильвина, визгливо бросалась на его защиту и часть ужасных побоев принимала на себя. Один раз Герман разбил Сильвину голову, и тот целую неделю не мог прийти в себя, ничего не видел, заглядывая в глаза людей, и ничего не слышал и не чувствовал. Герман волосы рвал на себе, на коленях перед кроватью Сильвина умолял простить, а когда телепатическое чутье квартиранта постепенно вернулось, поклялся на иконе, что больше не тронет его и пальцем.
Бывало, что предсказания Сильвина не только спасали кошелек Германа и весь его бизнес, но и саму его жизнь. Однажды Сильвин только заглянул в глаза Германа, как сразу испуганно распахнул беззубый рот.
Герман. Что там? Что случилось, тля? Говори же!
Сильвин. Насколько я вижу, сегодня вечером ты отправишься в ресторан.
Герман. Ох-ссы-ха-ха! Вот новость! Что из этого? Я и без тебя это знаю. Меня пригласил Капитан, хочет обсудить покупку ювелирного магазина.
Сильвин. Ты же знаешь, что Капитан тебе не друг, и все его предложения следует воспринимать с превеликой осторожностью.
Герман. Никак ты вздумал меня поучать, недоносок? Если я пообещал больше тебя не бить, то ты уже решил, что можешь говорить мне, что захочешь? А если я отберу у тебя твою узкоглазую мартышку и верну ее в притон, обратно к похотливым подросткам, пьяным бандитам и старым развратникам?
Сильвин. Капитан, как я тебе уже говорил, связан со столичными, и они задумали полный сальпингит. Сегодня в туалетной комнате этого ресторана тебя будут поджидать двое вооруженных мужчин в масках. Я вижу, как они в тебя стреляют, и вижу твой труп на залитом кровью кафеле.
Герман с перепугу прикурил фильтр, и естественно, никуда не пошел, изменив, таким образом, будущее.
С Сильвином Герман проводил не меньше получаса в день, подставлял свои глаза, успокаивался, удостоверившись, что опасность ему не грозит, потом выкладывал фотографии или показывал видео, заставляя во всех деталях рассказывать о сфотографированных или заснятых на камеру людях. Сначала его интересовали ближайшие планы исследуемого человека, а затем его прошлое; выудив что-либо, на его взгляд, ценное, он очень радовался, благодарно трепал Сильвина по щеке и угощал его какой-нибудь вкуснятиной, иногда с руки, словно собачку, правильно выполнившую команду.
Сильвин очень уставал, роясь в мозгах людей. Занимаясь этим, он чувствовал себя отнюдь не сказочным чародеем, как представлялось романтичной и необразованной Мармеладке, а угрюмым патологоанатомом. Тело на прозекторском столе может казаться крепким и выглядеть молодо, но, взломав грудную клетку, вдруг видишь старое, давно пораженное сердце, закопченные легкие, и изумляешься, сколь велика разница между внешними проявлениями, которые напоказ и о которых всегда особо заботятся, и внутренним содержанием, которое узнаешь, только если основательно распотрошишь плоть. Привыкнуть к этому было сложно. Красивый человек с умным душевным взглядом, теплыми располагающими губами, на поверку оказывался обманщиком, грязным интриганом, закоренелым подлецом, воришкой или даже извращенцем, если вообще не потенциальным маньяком-убийцей. Часто носители этих качеств сами не подозревали о своих аномалиях, ибо, как правило, они были надежно сокрыты на дне разума, жили-поживали спокойно до тех пор, пока какое-нибудь весеннее обострение не переворачивало в их голове все вверх дном, и вот тогда-то их помыслами и поступками начинало управлять всплывшее на поверхность зло.
В катакомбах подсознания многие до жути боялись смерти, были ленивы, невежественны, бисексуальны, склонны к психическим расстройствам, а еще завистливы и озлоблены. Тысячи страдали склонностью к садизму, мазохизму или суициду. Девять из десяти от скуки, безысходности, по зову природы или в поисках адреналина изменяли своим женам и мужьям. Высшие помыслы катастрофического большинства сводились к близорукому финансовому благополучию и получению от жизни примитивных удовольствий. Их жизнь была лишена всякого смысла.
Каждый второй мужчина любил порнографию и мечтал изнасиловать красивую женщину, каждый пятый — в извращенной форме, каждый шестой являлся генетическим алкоголиком, каждый восьмой жил на взятки, а каждый пятнадцатый был частью преступного сообщества. Каждая вторая женщина завидовала близкой подруге и откровенно желала ей зла, каждая третья хотя бы один раз в жизни фантазировала о групповом сексе, каждая седьмая повыгоднее себя продавала, под какой бы плотной паранджой не скрывалась истинная ее суть, а каждая десятая время от времени воровала в магазине вещи или продукты.
Пусть эпицентры всех этих чувств и желаний были у людей глубоко в подсознании, под мощными тектоническими пластами и редко выходили на поверхность, но они были. Это для Сильвина являлось таким же фактом, как и пустая глазница на его лице, где когда-то светился болезненным огнем здоровый глаз.
К слову, у взрослых почти не было шансов понравиться Сильвину. После четырнадцати лет от роду любая душа начинала движение от возвышенной красоты, данной каждому Богом при рождении, к дремучим порокам, навязываемым социумом, а к двадцати пяти ее вообще окунали в чан с дерьмом, где со временем она пропитывалась такой вонью, что трупный запах покажется бертолетовым благоуханием, и далее сгнивала заживо. Только дети все, как на подбор, были здоровыми и невинными. Сильвину нравилось быть в их свежих душах, это не требовало никаких усилий и это услаждало, успокаивало. Но Герману дети были ни к чему, он их презирал, поэтому заглядывал Сильвин внутрь детей от случая к случаю, мельком, если включал телевизор или выходил подышать воздухом возле подъезда. Младенцы же вообще были настолько чисты и одухотворенны, такой душевный и сильный космический свет струился из их глаз, что с ними могли сравниться разве что только глаза Божьей Матери на простенькой иконе, которую Герман держал на кухне, на подвесном ящике для посуды…
И еще Сильвин подметил, что бедные и убогие, хотя и были поражены теми же пороками, но грешили, возможно, в силу ограниченных физических и финансовых возможностей, значительно реже, да и масштаб злодеяний здоровых и богатых был совершенно иной. Из этого он вскоре сделал окончательный вывод, что мир был бы значительно чище, если б им действительно управляли странники, как в его выдуманном мире на потолке.
Само по себе сканирование содержимого человеческой головы требовало необычайных физических и психических усилий. Невероятное напряжение иногда приводило Сильвина к потере сознания или сильному расстройству кишечника, бывало, его часами тошнило, выворачивало так, что, казалось, сейчас желудок вывалится изо рта.
Помимо физиологических неприятностей он часто испытывал сильнейшие душевные расстройства, теряя на несколько минут, а иногда часов, рассудок. В общем, он страшно жалел, что обрел этот чудесный, но, одновременно, чудовищный дар, он уже с болезненной жаждой вновь подумывал о самоубийстве, как единственном способе обрести физический, а главное — душевный покой, но при этом прекрасно понимал, что любой на его месте отдал бы все, чтобы обладать лишь малой частью подобных способностей.
А еще теперь рядом с ним почти всегда была Мармеладка — то ли возлюбленная, то ли сиделка, то ли соглядатай Германа, забавная, бедовая, беспокойная, болтливая. Всеми добрыми воспоминаниями о ее прошлой жизни, если выжать их в один сосуд, не наполнить и наперсток, в ее душе осталась одна только боль, давно приобретшая хронический характер. Но при этом она обладала способностью особо не терзаться, радоваться тому, что на данный момент есть — куску хлеба на столе, новой песенке по радио, и ее стойкость и неожиданная мудрость вдохновляли Сильвина, успокаивали, удерживали от грустных мыслей и поступков.