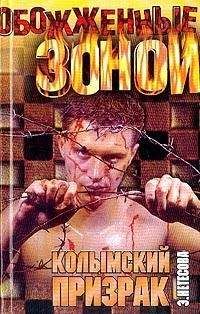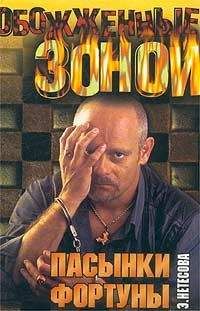— Я ведь сначала на срочную службу сюда приехал. Деревенским. После школы сразу. И тут же на вышку меня поставило начальство. Я приказ выполнял. Таращился во все глаза. Настращали, мол, убежит кто, первым под трибунал пойду. Стою на вышке, мороз до костей пробирает. Терплю. А тут пурга… Да такая, что небо с заплатку показалось. Раскачало вышку. Мне с нее убежать бы. Да не могу. Служба такая. А ветер вырвал вышку и — на проволоку, она — под напряжением… Шибануло меня вдвойне. Хорошо что откинуло от проволоки. Иначе и сапог бы от меня не осталось… Да что там это? Случалось и похуже, — выбросил в окно окурок и, выпустив облачко дыма, продолжил пассажир: — Вторая пурга мне по-особому запомнилась. Разразилась она в марте. После оттепели. Когда ее никто не ждал. Я поверил, что весна наступила, в наших краях она как раз в это время приходит, ну и от радости стою, развесив уши, тепла набираюсь. Ну, думаю, кончились муки. А дедок-водовоз шел мимо и говорит: «Держись, парень, это не тепло, это обманка, подружка пурги. Они с ней завсегда за руку хороводятся. Завтра такое грянет, света не взвидеть». Я ему тогда не поверил. Откуда что возьмется, если небо, как слеза, чистое, без единого облачка. И указал на то старику. Тот усмехнулся и показал на собаку, которая в снегу каталась. И говорит: «На это глянь. Собаки к пурге катаются. Их блохи грызут на непогодь. То самая верная примета. Попомни мое слово». А я, дурак, все мимо ушей. И слова старика… Заступил в дежурство на следующий день в одной гимнастерке под шинелью. А после обеда небо сереть начало. К ночи рассвирепело. Не то что двор внизу, свою руку лишь по локоть вижу. Жуть какая-то. Месиво из снега и песка. Ну я уже битый, с вышки сбежал вниз и во двор. А сам ничего не вижу. Вдруг грохот какой-то через рев пурги. Ну, думаю, мою ходулю-вышку пурга утащила. Опять — треск, шум. Что-то над головой просвистело. Ищу караулку, не могу найти. Ужас взял. Ведь в полушаге — ни зги. Как в аду. Темно, холодно, страшно. Я — на карачки. Нет, подо мной снег. Так где же я? По голове чем-то стукнуло. В ушах звон. Ветер с ног сшибает. Пришлось на четвереньки встать. Чтоб против ветра устоять. Не тут-то было. Сколько мучился, не знаю, но псом взвыл. До чего беспомощным себя почувствовал, жалким. Эта пурга самомнение мое вконец развеяла, растоптала. И тут я увидел административное здание. Я в него. А там начальник бесится. Только из барака прикатился. Мол, забор с проволокой сорвало и зэки убежали. Пятеро. На моем участке. Я когда услышал, взмолился, — мол, сил нет. Погибну. Не найду их. Не вижу ничего. А он — матом. И пригрозил, что в одном шизо вместе с беглецами меня запрет до конца жизни. Я и пошел. Вернее, выкатился. Чтоб не краснела за меня деревенька. Не стыдилась, — выдернул папиросу человек. Закурил нервно. Видно, воспоминания ему нелегко давались.
— Нашел? — спросил Аслан.
— Наткнулся я на них под утро. Случайно. Собака нашла. Метрах в двухстах от зоны. Пургу в сугробе переждать хотели. И замерзать начали. Окоченели было совсем. Идти не могли. Собака подняла. Я не дал ей с ними расправиться. А начальничку сказал, что за столовой их нашел. Всех пятерых. И никуда они линять не собирались. Ему, как я понял, все на одно лицо. Что я, что они — одинаково. Правда, сказал он мне, признайся, что вернул их в зону из побега — медаль получишь, отпуск домой. А мне вспомнилось, как грозился, как на верную смерть послал. И не сказал ему правду. Ведь он этих зэков до смерти из зоны не выпустил бы. Дорого заплатили бы они за мою награду. Да и мне б она руки жгла. Рассказать о ней своим было бы совестно. И теперь не жалею о вранье. Хоть было оно первым и последним в жизни.
— Я слышал о том случае, — улыбался Аслан. — Людей тех знаю. Двое уже на свободе… Спасибо тебе…
Бобкарь отмахнулся:
— Случайно повезло. Мог и не найти. Единственное, чему рад — не дал им замерзнуть. Ну, а потом — на сверхсрочную службу остался. Привык, вроде.
А вскоре попросил Аслана остановить машину.
— С трассой проститься хочу. Я навсегда уезжаю, — вышел из кабины.
Аслан оглянулся.
Бобкарь вышел на обочину. Стал спиной к машине. Снял фуражку перед трассой, как перед старым другом. Потом стал на колени и… поцеловал ее.
Забрызганную, грязную, холодную. За науку, мужание и зрелость, за жизнь, которую не посмела, не решилась отнять…
— Поехали, — надел он фуражку в кабине. И за весь путь до самого Магадана не обронил больше ни слова.
За окном кабины мелькали поселки. Аслан вглядывался в них, как зверь, соскучившийся по воле. Но нигде не остановил машину, не сделал попытку даже притормозить.
Когда на дорожном указателе появилась надпись «Магадан» и первые домики приветливо заглянули в кабину Аслана, бобкарь будто от сна пробудился:
— Давай напрямую. Вон там, видишь, многоэтажки. Так вот, у третьего дома затормозишь. У первого подъезда.
Аслан кивнул.
Сколько лет он не видел жилья человеческого. Казалось, прошла целая вечность. Как, оно выглядит теперь?
Обычно, как и прежде. Серые, небольшие домишки, как старушки на лавке, уселись рядком. Глаза-оконца в белых тюлевых занавесках. Заборы окрашены в теплый розовый цвет, бросающий вызов серой трассе, хмурому небу, холодной погоде.
Кое-где у домов скамейки. Белье на веревках сохнет. А неподалеку петух кричит. Кто б подумал, что это Магадан? Вон детская рубашонка сохнет. Мальчоночья. «Интересно, когда этот малец вырастет, какой станет Колыма? Будут ли ее любить дети? Может ли она стать кому-то постоянным домом?» — сомневается Аслан.
Шуршат колеса но гравию. И вдруг внимание к себе привлек дом. Плечистый, кряжистый, ставни резные. Наличники будто из кружев.
Значит, даже мастера тут имеются. Вольные. Сами приехали, обживают. Вон сколько выдумки и тепла в дом человек вложил. Под сказку сделал. Колыме назло. Будто вызов ей бросил. А может, полюбил?..
Но вот и многоэтажки. Обычные пятиэтажные дома. Всего четыре их. Внутренние дворы деревьями засажены. Снаружи — все на одно лицо.
И верно, заблудиться невозможно. В первом доме — гастроном внизу. Во втором — школа. Внизу спортзал. Даже с улицы видно. Третий — внизу почта. Остальные этажи — под жилье заняты.
— Тормози, — напомнил Аслану пассажир и торопливо выскочил из кабины. Ухватив рюкзак и чемоданы, попросил коротко: — Подожди немного.
Он шел к подъезду, обходя лужи.
Аслан только теперь заметил, как несоразмерно длинны ноги человека. Вспомнил, как много доброго слышал он о нем от зэков.
«Да, Илья Иванович, дал трещину твой антропологический вывод. Это точно. А может, этот парень стал исключением из правила? Только жаль, что маловато таких бобкарей, как этот», — вздохнул шофер. И, едва решил закурить, услышал над ухом:
— Пошли в дом. Тебя приглашают.
— Не хочу, — наотрез отказался водитель.
Но бобкарь вдруг стал жестким:
— Поесть надо. В столовую тебя вести некому. Обратно лишь к вечеру доберешься. Не кривляйся. Не съедят тебя там. Иди со мной.
— Потерплю до зоны.
— Не дури. И не унижай человека, которого не знаешь, кто тебя на хлеб зовет. Отказом обидишь. А это — Север. Свои обычаи. Их нельзя нарушать.
Аслан неохотно поднялся по лестничному маршу наверх. Вошел в приоткрытую дверь.
— Можно? — спросил у порога.
— Входите! — вышел навстречу моложавый, седой человек. И, протянув небольшую, сухую ладонь, пожал руку Аслану.
«Вот это рученьки у мужика, как клещи. Такими не здороваться, а головы живьем выдирать из самой задницы. Недаром его, гада, начальником зоны поставили», — разминал Аслан руку в кармане.
В крохотной приземистой кухне начальник зоны, назвавшийся Борисом Павловичем, налил Аслану борщ в тарелку. Поставил перед ним хлеб, сметану, котлеты с картошкой. Извинившись, вышел в комнату. Там он разговаривал с бобкарем о зоне, работе, ее специфике и условиях. О людях…
— Я только недавно узнал, что повар в чай добавлял соду. На бак — столько, пока темный цвет как от самой крепкой заварки не появится… Делалось это для того, чтобы видимость крепкой заварки чая создать. Сказал начальнику, что тем самым чай подворовывают. А он послушает меня и смеется. Назвал букварем. И говорит, что повар его личное указание выполнял. Сода отбивает потенцию. И мужиков не донимает плоть. Не мучаются они без женщин… И добавил к тому, что в зоне у него всякие имеются, но педерастов нет… Вот такие-то дела.
— Негодяй. Спокойно жить хотел. У него большой опыт. Но ведь зэки выйдут на свободу импотентами. Ведь сода не приглушает, а убивает потенцию. Как же разрешил этот произвол врач? Или они заодно?
— Вероятно.
Аслан чуть не подавился, услышав такое. Бобкарь прикрыл дверь на кухню, заговорил тише. Аслан теперь слышал лишь обрывки разговора. Но вскоре люди за дверью забылись и снова заговорили громче:
— По вине администрации за год в зоне погибают до полутора сотен зэков. До десятка охранников. И это только из-за погодных условий. Замерзают. Из-за транспорта, который редко приходит вовремя. А болезни скольких унесли — счету нет.