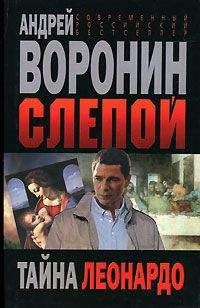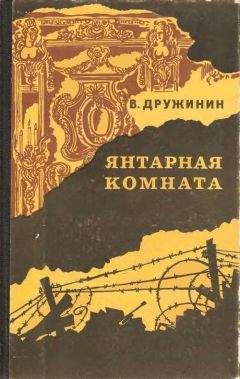– Обратите внимание, – сказала она, – на то, с какой скрупулезной точностью художник следует натуре. Во времена Леонардо не существовало маникюрных наборов, и, если хорошенько приглядеться, можно заметить, что ногти на руках у мадонны аккуратно обгрызены...
– Ну вот, – немедленно объявил один из нефтяников, краснолицый крепыш с седеющей шкиперской бородкой, которая шла ему как корове седло, адресуясь к своей дорого, но безвкусно одетой супруге, – ты видишь? Мадонне можно, а мне нельзя?
Подавив горестный вздох, Кира Григорьевна предложила экскурсантам "побыть наедине" с великими произведениями искусства и с облегчением умолкла. Рассыпать бисер перед свиньями – занятие бессмысленное, но ничего другого она, к сожалению, не умела.
Несколько нефтяников, в том числе и тип со шкиперской бородкой, ссылавшийся на авторитет да Винчи в своей борьбе за право беспрепятственно грызть ногти, столпились перед "Мадонной Литта", разглядывая и обсуждая ее с придирчивостью потенциальных покупателей. В целом, как поняла Кира Григорьевна из подаваемых ими реплик, то, как Леонардо владел кистью, заслужило их одобрение.
– Гляди, – по-прежнему обращаясь к жене, ворчал давешний бородатый нефтяник, почти водя носом по стеклу, защищавшему мадонну от таких, как он, – гляди, как человек работал! Одна тыща четыреста девяностый год, Америку еще не открыли, а нарисовано-то как! Не картина – фотография! А ты, понимаешь, купила картину... такие бабки отвалила, а на нее глядеть страшно! Мазня! Не поймешь, то ли он кисточкой краску по холсту развозил, то ли лопатой, все в буграх, и пыль с этих бугров хрен сотрешь...
– Можно подумать, ты только и делаешь, что пыль в квартире вытираешь, – хладнокровно парировала жена, разглядывая злополучную мадонну холодным оценивающим взглядом удачливой соперницы.
– Ха, размечталась! – Явно задетый таким несправедливым выпадом покоритель земных недр, похоже, забыл, где находится, и его голос, способный перекрыть визг снежного бурана и шум работающей бурильной установки, раскатился по всему залу, заставив посетителей обернуться.
Смотрительница вскочила со своего пуфика так стремительно, словно ее ткнули снизу сапожным шилом, и устремилась к нарушителю спокойствия с тихим, но пронзительным шипением: "Тише! Тише! Что вы себе позволяете?!"
– Пардон, мамаша, – добродушно пророкотал нефтяник, прижимая к сердцу большие красные ладони, – виноват, больше не повторится...
– Валенок, – отчетливо произнесла в наступившей тишине его жена. – Медведь. Вечно с тобой позора не оберешься...
– Так я ж ничего, – оправдываясь, забормотал покоритель недр, и его красное от мороза и ветра лицо сделалось еще краснее. – Я говорю, картина красивая, нынче так рисовать уже никто не умеет. Гляди, гладенько как, прямо как на фотографии...
– Картины пишут, а не рисуют, – мстительно сообщила ему супруга. – Валенок, – повторила она и отвернулась, поджав густо накрашенные ярко-красной помадой губы.
Чтобы сгладить инцидент, Кира Григорьевна заговорила снова. Поведав слушателям о том, что Леонардо был одним из тех, кто впервые применил в живописи масляную краску, она была вынуждена разъяснить разницу между маслом и темперой, упомянуть о применявшейся Леонардо технике "сфумато", а затем сочла необходимым поставить точку в неуместном здесь супружеском споре.
– Так что, – сказала она, – мазки и неровности на поверхности картины, разумеется, есть, и, если бы не толстое стекло, вы без труда смогли бы их разглядеть. Если хорошенько присмотреться, они видны даже через стекло, особенно если смотреть под острым углом, сбоку...
Неугомонный обладатель шкиперской бородки и вздорной супруги немедленно зашел сбоку, сунулся лицом к самому стеклу и принялся, согласно полученной рекомендации, рассматривать картину под острым углом. Вид у него при этом был до комичности серьезный, как будто он пытался отыскать неисправность в забарахлившем бурильном оборудовании.
– Да нету, – объявил он на весь зал, разгибаясь, с таким видом, как будто его только что попытались грубо обмануть.
– Тише! – опять зашипела смотрительница.
– Простите? – обернувшись через плечо и изумленно приподняв брови, сказала Кира Григорьевна этому возмутителю спокойствия, о котором уже успела забыть.
– Нету, говорю, там никаких мазков.
Снисходительно улыбнувшись и бросив красноречивый взгляд на часы, Кира Григорьевна еще раз, более подробно, рассказала о сфумато и добавила несколько слов о составах живописных лаков, которыми пользовались в те времена. Нефтяника это, однако, не удовлетворило. Похоже, он был из тех людей, которые отстаивают свою правоту до последнего, невзирая ни на что.
– Это все понятно, – произнес он тоном, который свидетельствовал о том, что рассказ Киры Григорьевны вряд ли дошел до его сознания, – но мазков-то нет! Гладенько все, как на фотографии!
– Ну, разумеется, – поняв, что его не переспоришь, и не желая затягивать этот глупый инцидент, согласилась Кира Григорьевна. – В те времена фотографии еще не существовало, и художники стремились как можно более реалистично запечатлеть натуру – разумеется, в несколько приукрашенном, идеализированном виде. Отсюда и некоторое сходство их произведений с фотографией... Давайте продолжим нашу экскурсию, – чуть повысив голос, уверенно и звонко произнесла она, – и осмотрим так называемые Лоджии Рафаэля, построенные архитектором Кваренги в восьмидесятые годы восемнадцатого века и являющиеся копией знаменитых Лоджий Рафаэля, украшающих Ватиканский дворец...
Группа послушно, как стадо баранов за пастухом, потянулась за ней. Было слышно, как жена бородатого нефтяника злобным полушепотом разносит его за невежество и тупость, а тот виновато, но упрямо бубнит, что попадает белке в глаз с двадцати метров безо всякой оптики, а значит, как-нибудь способен разглядеть, есть на картине бугорки или их там нету.
Двое разбитных молодых людей, считавших, по всей видимости, что их плоские шутки должны веселить всех окружающих так же, как их самих, и потому безумно мешавшие Кире Григорьевне в продолжение всей экскурсии, вполголоса, но внятно и очень оживленно обсуждали какой-то глупый комедийный фильм, герой которого, страховой агент, нечаянно запачкал страшно дорогую картину и, пытаясь очистить, полностью смыл растворителем голову изображенной дамы. Давясь хохотом, молодые люди наперебой вспоминали, какую рожу этот недотепа подрисовал углем на месте исчезнувшей головы и как он потом ухитрился поместить под пуленепробиваемое стекло обыкновенный рекламный фотоплакат, а на презентации никто ничего не заметил...
Кира Григорьевна вспомнила, что тоже видела этот фильм по телевизору. Фильм действительно был очень смешной, хотя и страшно глупый, но сейчас Кире Григорьевне почему-то было не до смеха. Подумалось вдруг, что она уже давненько не приходила в зал да Винчи одна и не смотрела на его работы по-настоящему, как бывало когда-то...
Она замедлила шаг и обернулась. Толстое стекло, защищавшее "Мадонну Литта" от посягательств вандалов, слегка поблескивало под лучами мощных светильников. Его вид внушал уверенность, что с картиной ничего не может случиться – ныне, и присно, и во веки веков, аминь, – однако Кира Григорьевна мысленно пообещала себе, что после закрытия музея обязательно вернется сюда, чтобы окончательно развеять вдруг зародившееся в душе странное, ни с чем не сообразное подозрение.
– Что ж, Дмитрий Васильевич, – сказала Ирина Андронова, отступая на шаг от картины и убирая в сумочку увеличительное стекло, к помощи которого все еще иногда прибегала для пущей солидности, особенно когда имела дело с незнакомыми ей людьми, – вынуждена вас огорчить. Это копия, хотя и весьма совершенная, написанная не ранее чем через полтораста лет после смерти мастера. Увы, увы... Впрочем, – добавила она, чтобы собеседник не слишком огорчался, – ее рыночная стоимость тоже достаточно велика...
– Ну-ну, полноте, Ирина Константиновна, – с улыбкой произнес старик, – бог с ней, с рыночной стоимостью! Речь не о ней, а о художественной ценности данного... гм... произведения.
– Увы, – повторила Ирина.
– Ну да, ну да... – старик поправил очки в массивной роговой оправе и привычным движением огладил остроконечную седую бородку. Он чем-то неуловимо напоминал Ирине отца, покойного профессора Андронова, хотя внешнего сходства между ними не было никакого. – Какая может быть художественная ценность у копии?
– То-то, что никакой! – радостно подхватил второй старик, до этого молча сидевший на обитом зеленым плюшем диванчике и с нескрываемым удовлетворением наблюдавший за происходящим. Он был невысокий, худой, лысый, со сморщенной, как печеное яблоко, ехидной физиономией; несмотря на дорогой, идеально отутюженный костюм без единой лишней складки, шелковый платок, обвивавший морщинистую черепашью шею, сверкающие туфли и безупречные манеры, его так и подмывало назвать не стариком, а старикашкой. – Я тебе, старому дурню, сразу сказал, что это копия, а ты заладил, как ученый скворец: оригинал, оригинал... Неизвестный ранее шедевр он, видите ли, открыл! Если разобраться, так это не копия даже, а подделка. Стиль письма похож, а такая работа ни в одном каталоге не значится... Верно ведь? – обратился он за поддержкой к Ирине.