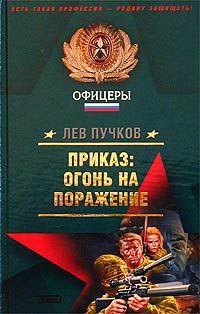К Кругленькому же заказы шли косяком — пустые, зато денежные, профсоюзно-комсомольские! Фима бесцеремонно на пару с дерьмовым режиссером выдергивал на выбор лучших операторов и монтажеров и лепил фильм за фильмом — о подъеме Нечерноземья и славной милиции, о народных промыслах Камчатки и дружбе народов Закавказья…
Что до девчушки, то, отчирикав положенное, она исчезла, как испарилась. До Фимы дошла сплетня, что прелестный ротик она открывает уже по другому поводу и в опочивальне такого лица, чье имя лучше было и не произносить всуе… Кругленький и не произносил. И даже старался не думать. Ну да у кого есть мозги, у того они есть!
А потому Фима понимал, что все содеянное для него неизвестными благодетелями есть аванс, и его придется отрабатывать. Он был к этому готов. Он ждал.
К нему снова подошли. На сей раз это была дама самой аристократичной наружности, высокомерная, плавная, спокойная. Ее представили на каком-то киношном официозе как киноведа-теоретика, и за бокалом шампанского дама настойчиво и целеустремленно, персонально для Фимы, задвинула речь: какие фильмы есть искусство, какие — нет. Как диагнозы ставила. Кругленький загрустил глазами и не мельтешил: мысль была единственная — как бы слинять пошустрее. Дама была сухощава, как вобла, навязчива, как ледокол «Ленин» на экваторе, и глупа, как круглая дура, изнасилованная гуманитарным образованием. В ее появлении Кругленький заподозрил даже волосатую руку Ромы Бейлина, обчищенного Фимой с напарником прошлой средой за преферансом вчистую. Бейлин знал, что именно таких баб Фима не просто терпеть не может — не выносит.
Но грубо отвалить что-то мешало. Интуиция? Чутье?
И тут:
— …это не просто безвкусица, это моральный стриптиз, это гнусность и пошлость, претенциозная, лживая…
Дальше Фима не слушал. Дальнейшее было не важно. Он думал. Среди дурацкой болтовни промелькнуло два имени, вроде бы бессвязно: Федор Антонович и какая-то фамилия притом и Лев Самуилович Шпарович. Федором Антоновичем представился тот полный самоуверенный весельчак, что просил пристроить девицу… Имя было как бы паролем. Ну а Льва Самуиловича в их мире знал каждый, — это был кит, слон, дракон вместе взятые! Подставить его было нельзя — его можно было только стереть, уничтожить или, как выражались люди тихие, — устранить. Самое противное было то, что как раз Шпарович выводил «в люди» его, Фиму, и был он даже каким-то далеким родственником дяди Якова…
Фима думал. Но думал он не над вопросом: «Делать — не делать?» Он думал над тем, как делать наверняка.
Старик Шпарович таки пожил. Кто знает, сколько грехов было на совести самого Льва Самуиловича, раз он сумел не только пережить без паралича и инфаркта всех генсеков и минкультов, но еще и очень-очень многое нажить… Нет, бросать на ветер свое благосостояние, свою будущность, свою покойную старость — разве ж тут есть вопрос? Тут есть только ответ!
Фима думал. И придумал. Налетел на Шпаровича мелкий прыщавый режиссеришка, подающий надежды, его неожиданно твердо поддержал всегда «никакой», обтекаемый предпрофкома — уж об том Фима позаботился особо; следом осторожненько вякнул замдиректора студии — уж у этого всегда были уши по ветру и хвост пистолетом!
Лев Шпарович ушел с худсовета разъяренный и красный, пообещав всех смести. Три дня было тихо. А потом карманный Фимин писака в третьестепенной газетенке тиснул статью. В смысле, что «да, и вроде бы да, но — нет»!
А еще через три ухнули газеты главного калибра. Уже не заботами Кругленького. Но он-то понял, что попал.
Старика Шпаровича не просто смели, его еще и прикопали на три метра вглубь.
В переносном смысле.
А через полтора месяца — и в прямом: обширный инсульт, распространившийся на оба… Гордость советской кинематографии… Некролог подписали лица, понятно, не первые, но весьма значительные.
Ефим Зиновьевич Кругленький стал богаче. Много богаче.
Ефим Зиновьевич гордился собой.
Он правильно оценил положение. Некие люди стремились овладеть ситуацией загодя. Не на телевидении, вернее, не только там. Везде.
Кругленький не хотел знать лишнего. Для него было достаточно, что он вовремя сумел сориентироваться, занять нужную сторону и вот уже несколько лет работал активно: собирал информацию — или сплетни, как кому нравится, — пристраивал, кого требовалось и куда требовалось, помогал убирать неугодных.
Деньги текли к нему рекой. Те самые миллионы, что в конце восьмидесятых хлынули в кино «на отмывку», — через его мягкие пальцы журчал не самый узкий ручеек.
Неведомые «фигуранты» не забывали Фиму, как и он никогда не забывал о них.
Иногда приходила мысль: а не послать ли этих благодетелей уже подальше, — они помогли ему стать богаче, но ведь и он в долгу не остался! Большие деньги рождают иллюзию независимости. Вот именно, иллюзию!
Ибо мешали три соображения. Во-первых, Фима не знал, кто эти люди, и соответственно не мог оценить степень собственной значимости для их бизнеса: уход в такой ситуации был бы равнозначен самоубийству. Второе, конечно, деньги.
Их много не бывает. И процесс их постоянного получения настолько приятен сам по себе…
Ну, а третье… В этом Ефим признавался только самому , себе, да и то невнятно, как бы шепотом. Эти неизвестные дали Кругленькому возможность насладиться самым большим удовольствием — властью. Теперь во многом от Фимы зависело, кто останется на коне, а кто будет повержен, кто при деньгах и славе, а кто — в забвенье… И то, что реальной власти Кругленького, как и реальных размеров его богатства, не знал никто — даже его «шефы», только добавляло этому приятному ощущению власти особый вкус… Тонкий и изысканный…
Фима пригубил бокал сока. Манго и апельсин. Видела бы сейчас его мама…
Она бы гордилась.
Он сделал еще маленький глоток… Вот именно — вкус тонкий и изысканный…
Ровно неделю назад Фима снова сделал выбор. И снова в свою пользу. Теперь уже — именно в свою.
К Кругленькому на этот раз подошел мужчина профессорской наружности — не хватало лишь золотого пенсне и обращения «батенька». Вот только разговор пошел строгий. Фима понял: «профессор» не фигурант, а активный функционер неизвестных благодетелей… Благодетелей?
Речь зашла сразу о Семене Штерне. Именно его собирались устранять. Вместе с окружением. Выявить его «концы», в том числе и теневые, в кино и на ТВ, и начать тихонечко их чистить должен был именно он, Фима.
Ефим Зиновьевич был не трус. Но он испугался. Испугался смертельно. Тому были причины.
Если «устраниловку» начнет он, Фима, — он станет живцом. На него и его действия должен отреагировать Сема Штерн, чтобы попасться и сладиться вчистую.
Насчет того, как отреагирует Сема, Кругленький иллюзий не питал. «Профессорские» заверения в том, что его прикроют, что операция будет развиваться стремительно с разных концов, Фиму не убедили. Он резонно полагал, что к тому времени его дорогое ему тело превратится в остывающий труп с орнаментом из пулевых отверстий от груди к спине и обратно. Такая перспектива пугала. Как сказала бы покойная тетя Рева: «Оно вам надо?»
Таки нет!
Ефим Зиновьевич знал только один правильный вариант данного дебюта: устранение ферзя, Семена Давидовича Штерна. Только в этом случае можно было играть.
В ином другом — нет!
Но с Кругленьким никто и не советовался. Его просто поставили в известность. Вернее — подставили в неизвестность. Как выражаются блатные — Фима «попал в непонятку».
Сема Штерн, как и сам Фима, был вовсе не тем, кем его знала публика. За его осанистой спиной маячили неясные тени — то ли бывших кагэбистов, то ли агентов империализма, то ли воровских авторитетов, то ли проворовавшихся высших армейских чинов, то ли всех их вместе, оптом и в розницу…
Фиму терзали два чувства: страх и обида. Страх — оно понятно, почему.
Обида… Ну а как же иначе: наконец-то поиметь деньги и все, что к ним полагается, заработанные нервами и потом, мозгами и кровью, — и все для того, чтобы тебя поимели какие-то засранцы?!
Но Фима думал. Очень думал.
У кого есть мозги, у того они есть!
Все просто! Фима активизировал с десяток «левых», ничьих мальчиков — такого добра на ТВ всегда с избытком, а потому они готовы поактивничать и хоть к кому-то примкнуть, абы отхлебнуть от кормушки денег или славы (что в общем-то в этом мире одно и то же), — и тихонечко направил их на Семиных людей. Не отсвечивая.
Да! Вот, что больше всего раздражало Фиму в Семе Штерне, — он не сидел тихо и отсвечивал. Был каждой бутылке — пробка. Но при том — ему все удавалось!
Короче, Фима нашел «отмазку» для «шефов»: если Сему Штерна все-таки «прикопают», — были люди, люди суетились, это мои люди. С другой стороны он тихонько, вкруговую, запустил информацию для Штерна. Фима это называл — «запустить рулетку». Чтобы Сема пошевелил извилинами.