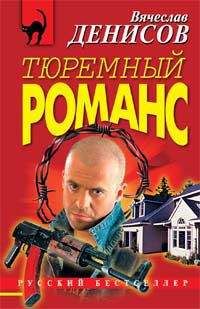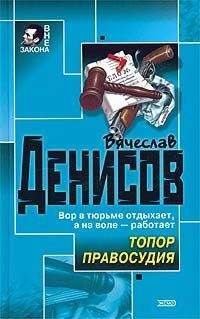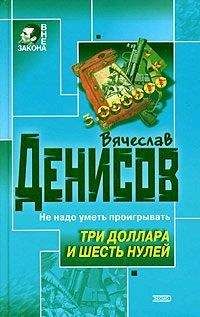Через неделю Струге просыпался от звонка уже нового просителя.
– Струге, это вы?
– Я.
– Что насчет Коровякова? Не терпится решение узнать.
– Приговор, ориентировочно, в ноябре будет, – глотая на всякий случай димедрол, советовал Антон Павлович, – приходите. Напомните, кто вы и откуда, я велю запустить в зал.
– Один уже напомнил. Вчера только из травмотологии вышел. Горит желанием зарезать. Струге, вы и мы – умные люди. Неужели мы не сможем договориться?
– Давайте попробуем. А с кем?
После последнего слова Коровякова позвонили в последний раз и спросили, знает ли Струге, что произойдет с уважаемым и авторитетным человеком Коровяковым, если он попадет на зону с такой статьей. В рамки рассматриваемого уголовного дела это не укладывалось, о чем Струге без обиняков и сообщил. Тогда у него поинтересовались, стоит ли невинность Шарагиной жизни Антона Павловича, и тот ответил, что для решения подобных вопросов нечего с наглой харей лезть через толпу. Следует зайти за угол Центрального суда и занять очередь.
Больше Струге не беспокоили.
Но на хорошего человека жути никогда не жалко, и в начале ноября Антона Павловича ждала новая напасть.
Суд – это то место, где тайное становится общедоступным. Даже если это закрытое заседание, уже вечером журналисты всех местных каналов сообщат, что говорил на закрытом от прессы заседании подсудимый, на чем настаивал потерпевший и каким образом получилось так, что упрямство обвинения оказалось для суда более обоснованным, нежели ловкость защиты. Закон Ломоносова о том, что если где-то что-то исчезнет, то впоследствии обязательно где-то появится, в суде действует безаппеляционно.
Не успела секретарь судебного заседания судьи Струге, Алиса, зайти к нему в кабинет и сказать: «Вам письмо из канцелярии передали», – как на столе Антона Павловича запиликал телефон.
– Антон Павлович, если такое дело, то нужно писать заявление в ГУВД и получать на руки пистолет, – раздался в трубке знакомый голос.
– Какой пистолет? – опешил Струге.
– По закону мы имеем на это право, – уверенно настаивал на своем судья Левенец.
– На что? – окончательно растерялся судья, бросая взгляд на дверь – вошла Алиса.
– Антон Павлович, вам письмо из канцелярии передали, – сказала она, протягивая ему лист бумаги, пришпиленный к конверту скрепкой.
– В общем, – прозвучало в трубке, прежде чем в ней зачастили короткие гудки, – я советую.
Приняв конверт, Струге вновь потянулся к телефону.
– Антон Павлович, раз подонок не угомонился, нужно брать охрану, – ничуть не сомневаясь в своей правоте, заявил судья Каретников – сосед по кабинету с противоположной от Левенца стороны.
– Я подумаю, – не желая более выглядеть идиотом, сообщил Антон Павлович и повесил трубку. – Что происходит, Алиса?
Та кивнула на конверт, но очередной попытке разобрать каракули на развернутом тетрадном листке в клетку помешал все тот же телефон.
– Знаете что, Антон Павлович… – словно раздумывая, каким еще образом огорошить Струге, протянул председатель Центрального суда Николаев. – Зайдите лучше ко мне. Шутки в сторону.
Прежде чем подняться и последовать последнему, самому понятному из всех прозвучавших советов, Струге еще раз посмотрел на секретаря и разгладил на столе помятый лист.
– Алиса, у вас такое выражение на лице, словно вы уже трижды прочитали этот документ, но ничего не поняли.
– Почему же, – скромно потупила взор девушка. – Тут все предельно ясно.
Струге отбросил в сторону ручку, которую до сих пор не выпускал из руки, и воткнул взор в текст. Кажется, письмо, адресованное ему, он прочитал в суде последним.
«Здравствуйте, Антон Павлович» – так оно начиналось.
«Пишу вам оттуда, откуда вы знаете. Из колонии строгого режима в городе Табулге. Не можете не знать, потому что сами меня сюда и определяли. В 1995 году. Фамилию повторять не буду, она на конверте указана, скажу только, что скоро мне выходить».
Струге дотянулся до кружки с чаем и сделал большой глоток – чай остыл.
«Выходить мне очень скоро, ровно через три дня и два часа, поэтому очень скоро наступит день, когда я выйду».
Антон Павлович заставил себя сосредоточиться и, не дойдя до конца, прочитал написанное еще дважды. Возможно, это не симптомы абстинентного синдрома у автора, и читать следовало между строк. Но, сколько Струге ни вчитывался, всякий раз выходило, что житель колонии под Табулгой имеет в виду именно то, что пишет. Он скоро освободится. Не обнаружив подтекста, Антон Павлович продолжил изучать документ.
«Вы помните, Антон Павлович, за что меня посадили? Быть не может, чтобы не помнили, поэтому я не стану унижаться и говорить о том, что я тут ни при чем. Скажу лишь, что эту Качалкину топором я не убивал. Зарубил кто-то другой, а посадили вы меня, хотя я тут совершенно ни при чем».
– Что ты встала надо мною, Алиса? – поднял Антон взгляд. – Ты Горбунцову повестку отправила?
– Нет еще. – У девушки был взгляд, словно она боялась пропустить момент инсульта у своего судьи.
– Так иди, отправь. И не мешай, я и без тебя ничего понять не могу…
«Помните, я вам говорил, что был выпимши и ничего не помню? А вы мне ответили, что это не алиби, и впаяли восемь лет. А я помню. Я, конечно, не писатель и романов писать не научен, но отношение к вам выражу лучше Пушкина. Адвокат оказался бараном, прокурор свиньей, свидетели крысами, и после оглашения приговора я убедился, что от этого скотного двора вы ушли не очень далеко».
Потревожил телефон, и Антон был вынужден отвлечься.
– Антон Павлович, вы идете? – очевидно, предполагая, что Струге прихватил телефон с собой, спросил Николаев.
– Сейчас, сейчас, – успокоил его Антон. – Дочитать нужно. Вы же по поводу письма меня вызываете?
– Конечно! – взорвался Виктор Аркадьевич. – А вы что, еще не прочли?
– Ну так пока очередь дойдет…
«За эти восемь лет без трех дней и двух часов я заработал туберкулез, посадил печень и отморозил почки. А на этапе меня каждый день бил конвой, и я вас спрашиваю – стоилили (зачеркнуто) стои лили (зачеркнуто) стоили ли мои мучения одной ошибки судьи? И вот теперь я, Антон Павлович, думаю, что у вас отбить первым. Почки или печень. Но я не такой садист, как вы, восемь лет мучить не стану. Поэтому обойдусь тем, что зарублю вас топором. Я как раз за это отсидел, так что все будет по закону. С уважением, осужденный Кургузов».
– Понятно, – выдавил Струге и поднялся из-за стола. – Алиса, будут искать – я у Николаева.
В коридоре Струге встретила мировой судья Маминова и, задержав его за рукав, шепотом сообщила, что в том случае, если Антон Павлович не станет возражать, она может позвонить своему брату в Табулгу (заместителю начальника оперативного отдела колонии), чтобы Кургузову перебили еще и ноги. Антон отказался и вошел в приемную.
– Что вы обо всем этом думаете? – ни секунды не медля, поинтересовался председатель.
– Я думаю следующее, – вздохнул Струге. – Две недели назад в нашей поликлинике не знали, что у меня сменился домашний адрес и, поскольку я не появлялся, отправили результаты моих анализов в суд. И сейчас подсчитываю, кто из судей в этот момент находился в отпуске и может не знать, что у меня панкреатит.
Виктор Аркадьевич поморщился.
– Да кому какое дело до вашей поджелудочной железы? Вот безопасность головы вашей – это наша общая забота. Кто такой Кургузов?
Антон присел на предложенный стул и устало улыбнулся.
– На нашей территории есть микрорайон, именуемый Шестым, но всем он известен как Нахаловка, – убедившись в том, что для Николаева это не новость, он продолжил: – Проживает там, как вам известно, группа лиц, не приспособленная к нормальной человеческой жизни в условиях демократических преобразований. Это потомки тех, кто для строительства Тернова был пригнан из европейской части страны в кандалах.
Закончив экскурс в историю и демографию, Антон развел руки в стороны:
– Предки Кургузова были пригнаны первыми.
Раздосадованный Николаев снял с носа очки и стал тыкать ими Струге в руку, как электрошоком.
– Вы, Струге, дошутитесь, дошутитесь! Мне любопытно, что вы будете делать, когда через три дня и два часа… Уже конечно, меньше! – так вот, что делать будете?
Антон отвел пораженную руку в сторону и опустил под стол.
– Виктор Аркадьевич, Кургузов – сорокалетний отморозок, ростом чуть более полутора метров в прыжке и весом около пятидесяти килограммов. Плюс ко всему он еще и картавит. «Подсудимый Куггузов» – как он себя называет. Если исходить из содержания написанного им письма, то сейчас ему еще хуже. Как вы думаете, что я буду делать, если увижу его на улице с топором в руке? Я благодарю вас за заботу, но не вижу смысла придавать этому письму значение вселенского масштаба.
– А я вижу. – Было видно, что Николаев возражает не по причине врожденного упрямства. – И считаю, что нужно предпринять соответствующие заявлению меры. Данное письмо не что иное, как угроза жизни судье, и вы меня простите великодушно, Антон Павлович…