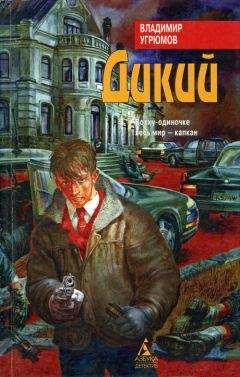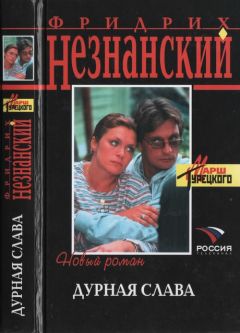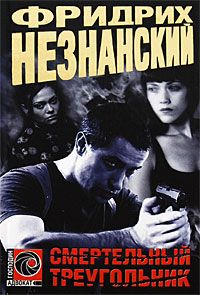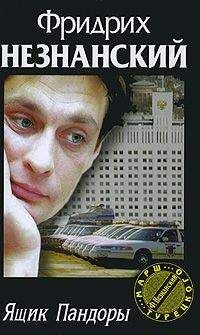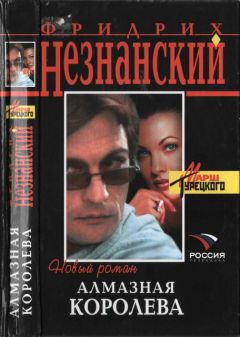Где-то часа через два на проселке закачались фары, и вот на парковку заходят черная «Волга» и «девятка». «Черные» любят черные «Волги»! А вот и командир их. Лицо его мне знакомо по авторынку. Я переминаюсь, ноги затекли, а ладони противно потеют. Я волнуюсь, и это понятно. Но не дрожат руки, нет. А первый раз, в тайге, когда я целился в тетерева… Тогда руки ходили ходуном. Я тогда первый раз сознательно убил живое. И теперь — сознательно. Тогда я чувствовал себя преступником, а теперь… Не знаю, теперь охотником. Охотником и дичью одновременно…
Вот он, командир «черных», который так ищет меня. Так вот ведь, рядом, возьми, если сможешь… Курит он еще, перед смертью не накуришься. Четверо «черных» окружают командира. Я мысленно прочерчиваю будущую траекторию подшипника — и с легким шелестом подшипник уходит в цель. Тупой чпокающий звук — и мне чудится, что я вижу черные брызги. Я поднимаю свое оружие со следующим зарядом.
Толстяк медленно заваливается на бок. Вот тебе и командир! Командуй теперь. Его бойцы замирают на целую секунду. Почти как у Гоголя. Тоже мне — к нам едет ревизор! Приехал уже… Второму я попадаю в горло, и тот, корчась, заваливается на командира. Все, я отваливаю, два километра рысью по ночному лесу. Туда, где в кустах спрятан мопед с иностранным названием «Рига». Главное, дышать ровнее и держать ритм. Ветка бьет по лицу, я спотыкаюсь. Но не падаю. Это «черные» хотели меня завалить, а теперь корчатся возле своих хреновых тачек…
На следующий день, отлеживаясь в Купчине, я уже не был так уверен, что мне удалось хлопнуть командира. Сотрясение мозга, пожалуй. Отваляется, отойдет. Несколько дней не выходил никуда и не звонил. На третий день не выдержал и сделал несколько контрольных звонков с улицы. Оказывается, командиру «черных» только лучше стало, как говорят медики, он перестал дышать. Скончался по дороге в больницу. Но если «черные» объяснят ментам, что они в Питере забыли, то меня сразу привяжут к эпизоду в кемпинге. Если менты найдут меня, то сразу не возьмут, поскольку улик нет, зато откроют для «черных». Оставалось только валить в какое-нибудь новое государство типа Украины. Денег на пару месяцев хватит. Сентябрь на носу — бархатный сезон. Бархатный не бархатный — главное свалить быстро. А там разберемся…
2
Я пробежал по перрону, расталкивая провожающих, и запрыгнул в вагон. Проводник проворчал в усы:
— Отправляемся уже, — и взял билет.
Поезд тронулся. Бумажник у меня сперли на вокзале, но я знаю, в какой стране живу, и никогда не ношу деньги или документы в бумажнике — распихиваю по карманам.
В моем купе уже жили все поколения постсоветского государства. Дед с бабкой смотрели в окошко на убегающее пространство Сортировочной, а на соседней полке молодая женщина пеленала грудного ребенка, который сперва мило гукал, а затем закричал на непереносимой частоте.
— Здравствуйте, господа, — сказал.
— Здравствуйте, — ответили мне, а ребенок прокричал: — А-а-а!!!
Почему в автобусах, трамваях и метро есть места для инвалидов и пассажиров с детьми, а в поездах нет? Да, посплю я сегодня. Еще и белье мокрое. Сгреб белье в охапку и отправился с ним к проводнику. В служебном купе задастая телка в железнодорожном берете.
— Поменяйте на сухое, — попросил ее, а она ответила:
— Иди ты…
Все понял. Ушел. Ругаться с ними мне сейчас резона нет. Забрался на верхнюю полку и заснул еще до того, как голова упала на подушку. Не слышал ни ребенка, ни боцманского храпа бабушки, ни как дедушка пукает в ночи. Утром пью чай, выхожу из купе курить, пока молодая мама кормит грудью. Стараюсь думать — как получается? А получается, что смысла в жизни нет. Говорили раньше — живи для детей своих, для потомков.
Это я, естественно, понимаю. А для себя как же? Эти проповедники, которые у власти или в церкви, говорят — так можно, а так нельзя. Если станешь делать как нельзя — все, кранты, тюрьма или грех-ад и все такое прочее. А сами живут в кайф, как хотят. Нет, я буду жить по своим прописям, сам себе правила напишу. А то одни с блядями на Канары, а другие с грудными детьми в душном вагоне на мокром белье… Нет уж! Свобода так свобода, демократия. Получай, одним словом, масленка в башню! И прихожу я вдруг к выводу, что нас обманули. Ад, которым нам грозят за грехи, уже наступил. Человеческая жизнь — это и есть ад. А дальше ада не пошлют. Дальше ада дороги нет. Только рай…
3
Вот и лето опять. Я выхожу на курортную платформу и затягиваюсь воздухом, в котором слышны запахи увядающей листвы, жареного мяса, каких-то ягод и фруктов. Народ струится вокруг — мирные граждане. А вот и менты животастые, вон карманник прошустрил, бичи бродят вместе с вокзальными собаками.
Нет, в гостинице я светиться не буду. Вон бабушки стоят рядком. Подхожу, спрашиваю:
— Кто возьмет молодого и красивого под крылышко за хорошую плату?
Меня выбирает сухонькая старушка. Другим нужны семейные. Мы добираемся до пыльной улицы, проходим несколько домов с палисадниками и сворачиваем к калитке. Мне предоставляют комнату во времянке. Там еще две пустых, и я плачу за них, чтобы никого не селили. Старушка счастлива и угощает пирожками с капустой. Я тоже счастлив, что жив еще.
Следующие две недели отдыхаю и приглядываюсь к местной жизни. Утром болтаюсь по рынку, маскируюсь в его толчее, покупаю дыни и виноград, а днем отсиживаюсь во времянке, нарезаю дыню тонкими ломтиками, откусываю сладкие тающие кусочки. Сок течет по подбородку, и я вытираю его полотенцем с вышитыми петухами. Вечером, когда жара спадает и становится не так душно, брожу возле моря, шурша галькой. Каждый вечер смотрю кино в местном кинотеатре с облезлыми колоннами возле входа. Где-то около двух тысяч баксов в кармане. Хорошие деньги только для курортника. На всю жизнь не хватит.
Воскресенье провожу на местной барахолке. Народ торгует ржавыми гайками и лампочками. У дядьки в военном кителе, сидящего на пожелтевшей газете и торгующего гнутыми гвоздями, я обнаруживаю в кошелке сигнальный револьвер и сторговываю его за смешные деньги. В понедельник брожу по окраине Евпатории и натыкаюсь на гаражи. Захожу, присматриваюсь — станки в углу за верстаками. Возле верстака — белобрысый парень с веснушчатым лицом.
— Привет, — говорю я и достаю сигареты.
— Привет, — соглашается парень и берет сигарету из моей пачки.
Я замечаю на фаланге указательного пальца след от выведенной татуировки.
— Жарко, — говорю. — Сейчас бы чешского пива.
— Хорошо бы, — кивает парень.
Я приношу пиво, и мы садимся на табуретки возле станков. Оказывается, пацан, Женькой его зовут, успел посидеть три года, и это мне нравится. Я предлагаю ему сто долларов авансом и еще сто пятьдесят по окончании работы.
— На мелкашку переделаю элементарно! — радуется Женька подвернувшейся халтуре.
Зарплата у него долларов пятнадцать в месяц.
— За такие деньги я тебя увешаю стволами с головы до ног. Будешь как Жан-Клод Ван Дамм, — улыбается Женька, а я его поправляю:
— Ван Дамм — каратист.
— Не важно!
— Важно, — говорю серьезно, отдаю аванс и ухожу.
— Я тебе мелкашных патронов достану даром, — кричит мне в спину Женька.
— Достань, — отвечаю я, не оборачиваясь.
4
Наконец я еду в Симферополь, чтобы приглядеться, одевшись, как рядовой отдыхающий. На мне потертые джинсы без наворотов и светлая рубаха с коротким рукавом. На плече сумка, а на переносице темные пластмассовые очки — мэйд ин юэса. Возле вокзала торможу частника — тридцатилетнего розовощекого хохла, — и он катает меня по городу. Я приглашаю хохла перекусить в кафешке, и водила соглашается. Парень языкастый, всех и все в городе знает — кто заправляет в Симферополе рэкетом, какие тачки у крутых и где их особняки. Я же ему рассказываю про себя всякий бред — из Московской, мол, я области, небольшой бизнес у меня, дела идут, но не очень… На прощание договариваемся, что если я опять приеду в Симферополь, то он меня покатает по городу. Нравлюсь я ему. Он мне тоже — интересную информацию выбалтывает и денег за это не берет.
Возвращаюсь в Евпаторию в хорошем расположении духа и на следующий день нахожу в гаражах Женьку, который с гордостью настоящего мастера показывает мне новый барабан и ствол.
— Круто! — говорю я.
— Может, запрессовать ствол? Или сделать его сменным? — Мастер по-настоящему завелся.
— Сделай несколько сменных стволов, — решаю я. — Вот тебе еще тридцать баксов за срочность.
Я достаю три десятидолларовые купюры. Женька забирает их и начинает нахваливать ствол — как отлично он нарезан, как пришлось повозиться с металлом; говорит, что это будет не какое-нибудь фуфло, а классная боевая машина.
Хорошо, что парень любит не только деньги. Так и охотник должен любить не только мясо… А Женька, вижу, просто балдеет от работы с оружием. Почти час он рассказывает мне о том, какое оружие изготовлял до «посадки». Мне оставалось только кивать и соглашаться — я ведь в этом деле полный профан. Я охотник, а не оружейный мастер. В конце монолога Женька вдруг заявляет: