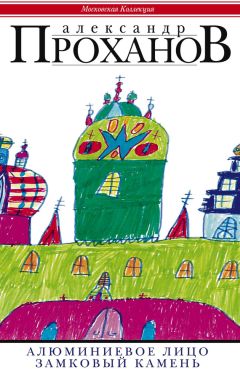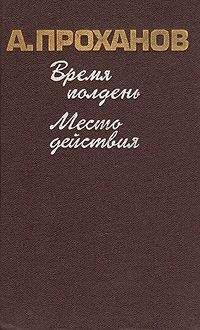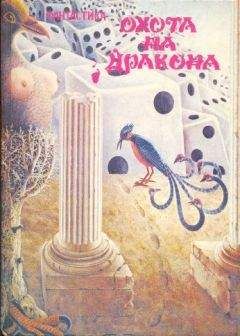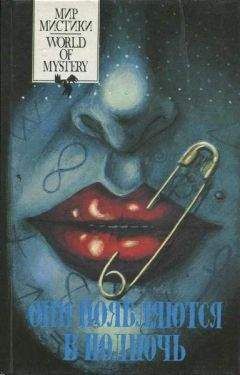— Не обманывай меня, Дарвеш. Наши разведчики есть в окружении доктора Ахмеда. Они слышали, как ты выбирал самых выносливых верблюдов, говорил, что эти верблюды должны быть сильнее вертолетов. Это значит, что они повезут ракеты, которыми можно сбивать вертолеты.
— Нет ничего сильнее вертолетов, мой господин. Вертолеты разрушили кишлак Хаш, где жила моя сестра, и в живых остались только собаки.
— В кишлаке Хаш только собаки и жили, — усмехнулся майор, — Ты мне скажи, Дарвеш, когда и где пройдет караван с ракетами? Где ты должен был его встретить? У колодцев Ходжа-Али, Палалак?
— Не знаю, господин, о чем вы таком говорите.
— Корнилов, помоги вспомнить дорогому Дарвешу, — Конь встал с табуретки, ловким ударом отправляя ее в угол. — Поговори-ка с ним по телефону.
Прапорщик сбил с головы афганца чалму. Рванул с его плеч ветхую хламиду, и она с треском распалась. Усадил на стол, так что ноги его повисли. Стянул с него шаровары, обнажив белые, не ведающие загара ноги, с которых со стуком упали сандалии. Прапорщик Матусевич ловко и грубо распутал веревку на запястьях афганца, повалил его на стол и, посвистывая, прикрутил его руки и ноги к ножкам стола. Афганец лежал голый, широкогрудый, с литыми мускулами, вздернутой бородой и клочковатым черным пахом. Водил по сторонам выпуклыми ненавидящими глазами, издавая оскаленным ртом странный шипящий звук.
— Я тебе буду в телефон говорить: «Дорогой Дарвеш». А ты мне отвечай: «Алло». Только не громко, а то твоя мама услышит.
Корнилов поставил на табуретку растресканный полевой телефон. Размотал двухцветную жилу, разделенную на два провода — синий и красный. К обоим проводам были припаяны медные пластины. Корнилов потер их наждачной бумагой, счищая зеленоватую окись, и шлепнул одну — на лоб афганца, другую — на его вздрогнувший живот. Прапорщик Матусевич с проворством санитара подхватил лежащую на окне простыню, встряхнул. Накинул на живот афганца, пропустив концы под столом, стягивая в тугой узел. Распустил чалму и туго обмотал голову пленника, прижимая ко лбу медную пластину.
— Пить охота, — сказал Конь, черпая из ведра воду. Жадно пил, бурля в кружке ртом. Недопитую воду плеснул на простыню, которая намокла и прилипла к животу афганца. Корнилов подхватил ведро и плеснул на пленника. Тот охнул, напряг мускулы, вода потекла на пол, и сквозь мокрую полупрозрачную ткань был виден темный пупок, медная пластина и курчавые волосы паха.
— Алло, дорогой Дарвеш, как слышишь меня?
Майор схватил трубку полевого телефона. Прапорщик Матусевич извлек из углубления в телефонном корпусе ручку «динамо», стал яростно, с хрустом, крутить. В ответ раздался истошный вопль афганца. Матусевич вращал рукоять. Из открытого белозубого рта рвался непрерывный крик боли. Глаза с красными, готовыми лопнуть сосудами выпучились. Тело дрожало и билось. Мускулы на плечах напряглись и вспотели. Сквозь мозг и распухшее тело, в желудок, в пах, в семенники била незримая молния. Майор, склоняясь над пленным, заглядывая в его вытаращенные глаза, кричал в трубку:
— Алло, Дарвеш, как слышишь меня? Скажи, дорогой, когда пойдет караван? Сколько верблюдов? Названья колодцев? Где и когда?
Матусевич отпустил ручку. Крик прекратился. Афганец бурно дышал, выплевывая слюну, и казалось, на его груди, там, где находилось сердце, набух волдырь.
— Соберись с мыслями, Дарвеш, и скажи, когда и где пойдет караван. Лучше скажи. Иначе я буду использовать тебя, как изолятор на электрическом столбе. Где и когда?
— Ничего не знаю…. Не мучьте меня, господин… — вываливая распухший язык, произнес пленный. — Аллахом клянусь, ничего не знаю!
— Ну вот, опять телефонный разговор! — Конь приподнял трубку. Прапорщик Корнилов скинул рубаху, обнажил могучую волосатую грудь, на которой распростер крылья грозный орел. Схватил рукоятку телефона и стал яростно крутить, направляя в бурлящее тело афганца жуткую непрерывную молнию, от которой тот хрипел, дрожал щеками, словно выпадал из фокуса, издавал звериный рев, брызгая слюной.
Суздальцев чувствовал, что где-то в дрожащем теле, среди конвульсий и хрустящих костей присутствует знанье, которое афганец невероятными усилиями удерживает в себе. А оно, окровавленное, окруженное разрядами тока, медленно всплывает, рвется из гортани сквозь кровавые брызги.
Чужая боль вызывала у Суздальцева ответное страдание, которое он гасил уколами анестезии, беззвучно повторял: «Так надо. Так надо». Казалось, все в нем начинало неметь и глохнуть. Но кто-то незримый, заглядывая в пыльное оконце, требовал: «Смотри!» И он смотрел на искрящую под мокрой простыней пластину. На бугрящийся пах, в котором судорожно поднималась в предсмертной похоти плоть. На махающего крыльями орла, схватившего когтями аббревиатуру «ОКСА». На безумное, с хохочущими глазами лицо майора, который склонился над истязаемым и, казалось, впитывал его боль, его крик, его хрипящее дыхание.
— Хорош, — Конь остановил Корнилова, который отирал локтем взмокший лоб. — Ну, ты, собака, последний раз спрашиваю, где и когда пройдет караван? Иначе я буду пропускать через тебя ток, пока ты ни превратишься в аккумуляторную баратею. Где и когда, собака?
Афганец обмяк, его закрытые веки дрожали, в них скопился пот. Из губ на бороду текла кровавая слюна. Грудь дышала с перебоями, будто сердце замирало, а потом начинало бешено биться.
— Не знаю, господин… — пролепетал он, ворочая синим искусанным языком. — Клянусь Аллахом!
— Давай, Корнилов, прочисть ему током кишки!
Опять заурчало «динамо», на руке Корнилова напрягся бицепс и дельтовидная мышца. Афганец хрипел, рвался, дрожал животом. В нем трепетала жгучая дуга электричества. Распарывала его надвое, ото лба, к которому был прижат электрод, до паха, в котором вскипало семя. Из него вырывали истину, которой он владел, которую прятал под сердцем, которая была его сутью и его душой. Ее отделяли от жил и костей. Раскраивали тело огненной молнией. Электричество расщепляло личность на душу и тело, и афганец погибал, лишался разума, удерживая в себе нерасщепляемую сущность, удерживал душу, которую вложил в него Бог.
Суздальцеву казалось, что к его глазам поднесли громадную линзу, в которой, увеличенные до огромных размеров, блестели окровавленные зубы афганца, прозрачное пламя, бегающее вокруг его бедер, летящий орел на голой груди Корнилова, пораженное безумием лицо майора, кричащего в телефонную трубку. И тот, неведомый, кто поднес к глазам громадную линзу, бессловесно возглашал: «Смотри!» Впечатывал в него зрелище пытки.
Майор Конь сотрясал телефонной трубкой, орал:
— Ты, собака афганская, поджарю тебя, как свинью!.. Из-за тебя, собака, гибнут лучшие люди!.. В вертолете ты смотрел на убитого Свиристеля, радовался его смерти!.. Вот теперь порадуйся! … Теперь порадуйся! … Порадуйся! … Когда пойдет караван? — он схватил ведро и плеснул остатки воды на живот афганца. Тот выгнулся, как рессора, и опал, и там, где в паху плясал разряд электричества, под прозрачной простынейе стало извергаться семя. Бурлило, приподнимало ткань, источало терпкий запах.
Майор отбросил трубку. Сделал запрещающий знак Корнилову. Было тихо. Распятый на столе, с воздетой бородой, лежал афганец. Прапорщик Корнилов курил, выпячивая нижнюю губу, выпуская аккуратные колечки дыма. Прапорщик Матусевич ногой возил по полу тряпкой, вытирая воду. Суздальцев, у которого отобрали увеличительное стекло, видел комнату, как туманное пятно с размытыми, слипшимися людьми. Словно кто-то стер границы между добром и злом, жертвой и палачом, им, Суздальцевым, и войной, которая склеила всех в нерасторжимое, из боли и ненависти, единство.
Через несколько минут афганец пришел в себя. Качнул головой, охнул. Приподнял веки, под которыми были голубоватые, без зрачков белки.
— Ну, что, дорогой Дарвеш, скажешь про караван? — произнес Конь. — А то я снова включу ток, и ты станешь светить, как электрическая лампочка.
— Не надо, господин… Я скажу… Караван с ракетами вышел из кишлака Путлахан… Я должен его встречать у колодца Дехши…
— Когда должен встречать?
— Сегодня.
— Сколько верблюдов?
— Шесть.
— Сколько ракет?
— Не знаю. Мне сказали, чтобы я не боялся. Если к каравану подойдут вертолеты, их собьют ракетами.
— Спасибо, дорогой Дарвеш. Ты настоящий друг! — произнес Конь и по-русски, резко повернувшись к прапорщикам, приказал: — Этого козла с нами в вертолет! — хлопнул по плечу Суздальцева. — Вот, подполковник, как надо работать. Надо знать закон Ома. На входе — амперы, на выходе — информация. Айда, к вертолетам!
* * *
Вертолетная пара с бортовыми номерами «46» и 48» готовилась к взлету. Отряд спецназа — все те же солдаты в панамах, длинноногий командир с туго набитым «лифчиком», похожий на кенгуру, — грузил на борт гранатометы, миноискатели, рацию. Запрыгивали в отсек, усаживались на скамьях. Прапорщик Корнилов, в форме, в «лифчике», с автоматом, подсадил в вертолет Дарвеша, и тот, истерзанный, в разорванной хламиде и в мокрой, просевшей чалме, бессильно рухнул на железное сиденье, уложив на колени длиннопалые, онемевшие от веревок руки. Майор Конь наставлял Файзулина и командира второго борта.