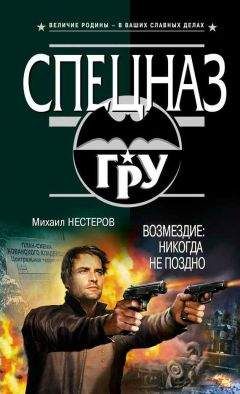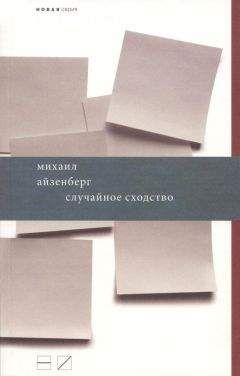Полчаса у него ушло на то, чтобы добраться до центральных ворот.
В административном здании горел свет, охранник (он был одет в полувоенную форму) курил на улице.
— Откройте калитку, — попросил журналист. — Я тут заблудился.
— Тогда тебе в обратную сторону, — мрачно пошутил тот, однако высокую решетчатую калитку с заостренными прутьями открыл.
Журналист отказался сунуть ему полтинник или сотню, ограничившись словами благодарности и пожеланиями удачи.
— И тебе удачи, — бросил ему в спину сторож.
Два километра Андрей прошел пешком и, только выйдя на МКАД, остановил такси. Пока он не определился, куда ему ехать, и сказал — в центр, однако на углу Профсоюзной и Обручева назвал конкретный адрес, припомнив одну особенность Жердева — работать до полуночи в своем «шереметьевском» офисе на Тверской.
Личный секретарь Жердева, припозднившийся вместе с шефом, доложил, что «внизу» его дожидается Маевский.
— Почему без предварительного звонка? — попенял журналисту Жердев. Он демонстративно бросил взгляд на часы: начало первого. Обычно он в это время, говоря языком операционной системы, закрывал работающие приложения и готовился перейти в спящий режим. Надо отдать должное его терпению, он не стал тревожить телефонным звонком ни Биленкова, ни Маевского — кто знает, может, они по уши в работе.
— Я видел Кравца, — опустился на стул Андрей.
— Ну и?
— Он ушел. Точнее, я дал ему уйти.
— А можно с самого начала? — не без сарказма попросил Жердев.
Он слушал журналиста, а перед глазами отчего-то стояла сцена пятнадцатилетней давности. Распустив опергруппу и готовясь к новой должности, он отдал распоряжение помощнику — отслеживать каждый шаг «пресс-отступника», то есть сесть журналисту на хвост и не слезать два-три месяца. Ему было важно знать, чем дышит «иуда из аквариума», потому что «предавший однажды, предаст и дважды». В первую очередь журналист записался на платные курсы по огневой подготовке. Тир, расположенный в подвальном помещении средней школы в районе Марьиной рощи, он посещал два раза в неделю. Тренировался в стрельбе из мелкокалиберного оружия — винтовки и пистолета, и дела у него шли неплохо: в этом Жердев убедился лично. Он сделал неординарный ход, показав, кто гроссмейстер, а кто разрядник. Вошел как-то в тир, среди нескольких стрелков у барьера отыскал глазами тускло освещенную фигуру Маевского и встал рядом:
— Как успехи?
Андрей повернул к нему голову и опустил руку с оружием.
— Дай, — потребовал Жердев на манер капризного ребенка. Подержав пистолет на весу, как будто считывал с него информацию, бывший оперативник Первого главка КГБ показал себя знатоком огнестрельного оружия. — Пистолет Марголина, калибр — пять и шесть. Прицельная дальность — двадцать пять метров. Емкость магазина — пять патронов. Сколько ты отстрелял?
— Четыре… кажется.
— Кажется… — Жердев не глядя выстрелил и попал в «молоко». Освободив пистолет от пустого магазина, на его место он поставил полный.
К этому времени все пять стрелков прекратили стрельбу, инструктор частного тира уткнулся в корочки, раскрытые перед ним помощником Жердева. Второй его сопровождающий, сменив мишень, возвращался по идеально простреливаемому коридору.
И Жердев решил продемонстрировать перед всеми «мастер-класс»: «нарисовал» в центре мишени смайлик — две пробоины посередине и ряд пробоин, символизирующих улыбку, внизу.
— Вы спите с пистолетом? — натянуто улыбнулся Маевский.
Жердев приподнял бровь: то ли да, то ли нет.
— Мне доложили, ты записался еще на курсы рукопашного боя. Встретимся на татами?
— Там ринг, — ответил журналист и поднес кулаки к подбородку. — В основном мы боксируем.
И вот спустя пятнадцать лет сам Жердев слушает о практических успехах журналиста в стрельбе.
— Ты хочешь сказать, это ты ухлопал Хатунцева? — перебил он Андрея.
— Так вышло.
— Ты что, извиняешься?
— Ну не то чтобы извиняюсь…
— Фантастика! Ты, ты ухлопал наемника!.. А где сейчас Биленков?
— Дома, наверное, отлеживается. У него вся грудь синяя, пара ребер сломана наверняка. — Маевский открыл крышку фотокамеры и вынул из нее карту памяти.
Жердев понял его с полнамека и вставил ее в картридер компьютера. Тотчас открылось окно проводника с эскизами снимков. Их было больше двух десятков, но Жердева в первую очередь заинтересовал один, самый яркий, что ли. На нем крупным планом чье-то лицо — с открытым ртом и распахнутыми глазами. Неужели это Хатунцев? Да, это он, убедился Дмитрий Михайлович, дважды кликнув мышью на эскизе: снимок растянулся на весь экран. Он был настолько четким, что Жердев различил синие прожилки на носу трупа, перхоть на вороте рубашки и даже посекшие кончики длинных седых волос. «Совершенство в высоком разрешении», — хмыкнул он. Всмотревшись в лицо бывшего оперуполномоченного, Жердев обратил внимание на дату и время в правом нижнем углу снимка и спросил:
— Как долго он мертв?
— Не больше трех или четырех минут.
— Ты сразу схватился за камеру?
— Не сразу. Я же сказал, что прошло какое-то время. Сначала я оказал помощь Биленкову и кореянке.
— Почему ты не снял их?
— Чтобы не привязывать их к убийству Хатунцева. Я не за сенсацией гоняюсь. У меня другое задание.
— Так объясни мне, для чего ты «сфоткал» Хатунцева и место его захоронения?
— Чтобы избавить вас от лишних хлопот. Вы все увидели своими глазами, и вам незачем вызывать эксгуматора.
— Хорошо. Есть еще вещи, о которых мне следовало бы знать?
— Я продолжу тему эксгумации.
«Давай», — глазами разрешил Жердев.
— Я остался на кладбище, поджидая Кравца. Он должен был прийти, и он пришел. И ушел не сразу: он задержался, и задержал его я, понимаете? Последние пять или шесть снимков посвящены Кравцу. Качество не очень, снимал я все-таки в темное время суток и без вспышки. Хотите услышать, почему я не уложил Кравца там, на месте?
— Биленков ответил бы: «Кто я, а кто он».
— Вот в этом мы похожи. Поэтому я сидел тихо, как мышь. Да, вот он, — подсказал Андрей, когда курсор замер на одном из последних в папке эскизов.
«Во всей своей красе», — нервно заметил Жердев, разглядывая на экране монитора еще одного, на этот раз живого и невредимого оперуполномоченного.
— Это единственные снимки, или у тебя есть копии?
— Вы можете послать своих людей ко мне домой, снять образы дисков с компьютеров, проверить удаленные хранилища. Пусть они ищут не по названиям файлов, а по их атрибутам: размер, глубина, тип, дата создания и прочее. Это облегчит им работу.
— Ты закончил?
— Да, у меня все.
— Отдыхай. И береги нервы. Ты какой-то взвинченный сегодня. Когда понадобишься мне лично, я тебя вызову. А так, ты по-прежнему находишься в распоряжении Биленкова. — Когда журналист уже подошел к дверям, Жердев окликнул его: — Мой водитель отвезет тебя домой. Хорошая работа.
— Я знаю, — улыбнулся кончиками губ Маевский.
Он чертовски устал. Но спать ему не хотелось. Единственное желание — растянуться на кровати, разбросав в стороны руки и ноги. Что он и сделал. И, не открывая глаз, спроецировал в обратную сторону весь прошедший день — в режиме перемотки, поставив на паузу только один момент: выстрел в Хатунцева, конец старой, но безотказной «машины смерти», для которой убить человека, что муху прихлопнуть. Вольно или невольно журналист оправдывал свои поступки. Уснул он только под утро.
Похожие чувства и эмоции переживал еще один человек…
Начался дождь, когда Кравец шагнул в подъезд своего дома. И первым его желанием было прислониться к стене и закрыть глаза. Но он еще не дома. Ему предстояло отмахать четыре лестничных марша, повозиться с двумя замками… Наконец он плюхнулся в кресло, вытянул ноги, через секунду вскочил, достал из холодильника банку пива и снова занял место в кресле. Глоток освежающего напитка вернул его к жизни. Только он — этот первый глоток — имел вкус и был по-настоящему ценен. Порой Игорь больше не притрагивался к банке и наутро выливал ее содержимое в раковину. Дальше следовало перебороть себя и не уснуть в кресле, как это бывало не раз. Но он не смог перебороть себя и провалился в глубокий, без сновидений, сон.
Вечером следующего дня Виктор Биленков пришел к Маевскому без предварительного звонка. То есть звонок был — по домофону. «Это Виктор. Есть минутка?» Из решетки переговорного устройства вырвалась на волю ирония: «Хм». Затем щелкнул электронный замок, и журналист перешел на серьезный тон: «Поднимайся на четвертый этаж». Виктор считал не марши, а ступени, и давались они ему тяжело, как будто он разом подряхлел лет на сорок-пятьдесят. Болело каждое ребро. Он обрел способность считать позвонки, подразделяя их на болезненные и крайне болезненные. Ему казалось, эта боль пришла навсегда и не отпустит его даже в гробу, когда к его позвоночному столбу приколотят доски. Проконсультироваться бы на этот счет у Хатунцева, но старый душегуб мертв, слава богу.