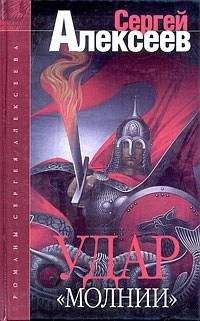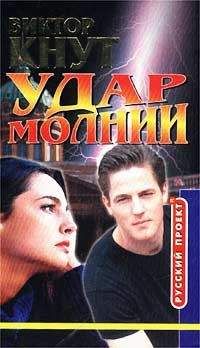Вместо авиабилета в Хабаровске он купил бубен с бубенцами и деревянные ложки: входил во вкус, появлялось желание обогащать свои выступления, вносить разнообразие, оттачивать виртуозность. Он ехал, давал концерты и снова ехал, не уставая восторгаться тем, насколько велика была Россия. Скорость передвижения на перекладных почти в точности соответствовала скорости движения на лошадях, и потому земля проплывала перед глазами медленно, в деталях и лицах. Он успевал всматриваться в каждую деревеньку, в полустанок, а в больших городах иногда задерживался на сутки, с изумленным лицом блуждая по незнакомым местам. Несколько раз он пытался устраивать выступления прямо на площадях, причем благотворительные, бесплатные, — просто не выставлял свою кепку. Поразительно, но такой душевный порыв не воспринимался! Люди останавливались, смотрели и старались побыстрее уйти, увести детей. Однако стоило поставить кепку и для затравки бросить туда пару сотен, как интерес публики резко возрастал. Наверное, люди хорошо понимали, что если молодой, лысый и прилично одетый гражданин пляшет за деньги — это нормально: нищета и рынок становились привычными; но если просто так, без причины, у зрителя закрадывалось сомнение, а не сумасшедший ли это? Не больной ли? Не маньяк?.. Иногда же Сане Грязеву хотелось плясать ради того, чтобы развлечься самому и развлечь публику, ибо даже в Сибири уже чувствовалась весна, вскрылись реки, оттаяли вершины холмов, заблестели отмытые окна и глаза людей…
И всю дорогу его преследовало одно странное обстоятельство: где бы он ни появлялся, где бы ни начинал концерты — всюду появлялась милиция, причем вооруженная автоматами, в бронежилетах и с навязчивой задачей проверить документы у Грязева. Он же, ощутив полную волю, уже принципиально не желал показывать свой новый паспорт, выданный взамен удостоверения личности офицера. В Чите его почти взяли на глазах у публики — подошли с трех сторон и ворвались в круг. Толпа было возмутилась, но блюстители порядка вскинули дубинки. Пришлось уронить на пол всех троих и уходить по-заячьи — петлями и сметками. В последний момент чья-то рука всунула ему кепку с деньгами и ремень сумки. После Читы, по всей вероятности, на него разослали ориентировку и недели две не давали покоя, отлавливая на каждом полустанке. Создавалось впечатление, будто он едет по оккупированной стране с полицейским режимом, и это неожиданным образом вдохновляло его, насыщало дорогу романтикой и приключениями. Что-то подобное Грязев испытывал на учебных тренировках, приближенных к боевым условиям, когда ставилась задача пройти насквозь атомную электростанцию, базу Черноморского военного флота, территорию воздушно-десантного полка, оставив в условленных местах кодированные знаки. Ему доставляло удовольствие оставить пластмассовую карточку на столе начальника охраны АЭС или начальника секретной части флота. Он представлял себе их физиономии, когда офицер особого отдела по телефонному звонку вынимал эти карточки и начинал крутые разборки. Грязева, как мальчишку, трясло от задавленного восторга и внутреннего смеха.
Он понимал, что это баловство, ребячье озорство, и не мог удержаться. А еще просто было приятно чувствовать себя неуязвимым и вольным в невольном своем государстве. Читинские ребята, кажется, сильно на него обиделись, хотя ничего дурного им не сделал, а только на пол уложил друг на друга, правда, на глазах народа. Переехав Байкал, как всякий приличный бродяга, Саня Грязев решил пожить денек в Иркутске и даже не стал давать концерт на вокзале, да к нему еще возле поезда прицепился милиционер, предлагавший пройти с ним в линейный отдел. Пришлось запереть его в пустом киоске возле ступеней подземного перехода, а он с испуга начал стрелять в фанерные стенки, поднял шум на весь город, так что Грязев вынужден был оставить железную дорогу с электричками и пересесть на автобус до Черемхово. Там он снова перебрался в пригородный поезд, поплясал на станции Зима, потом почти без эксцессов в Нижнеудинске, однако на узловой станции Тайшет, внешне спокойной и неагрессивной, решил дать большой гастрольный концерт — очень уж восторженно принимала публика! К тому же после традиционной чечетки Грязев начал с цыганских танцев, поскольку заметил в толпе цыганят, и тут не стерпел откуда-то взявшийся цыган — молодой, усатый, маслоглазый, в настоящей рубахе из красного шелка, в мягких хромовых сапожках на высоком подборе. И схватились они в перепляс, завели друг друга, разожгли соперничество, как в драке. Саня не заметил в пылу, как среди зрителей оказался целый табор — цветастый, шальной, глазастый. Забренчали бубны, захлопали в такт ладоши и даже скрипка запела! Больше всего Грязев боялся за свои чечеточные туфли: они были лаковые, тоненькие, красивые, но для серьезной пляски едва ли годились, поскольку купил их из-за твердой подошвы по случаю в магазине похоронных ритуалов. Вся надежда оставалась на то, что они отечественного производства и сделаны не из картона, а настоящей кожи. Да ведь клей-то у нас плохой! У цыгана же сапоги — залюбуешься, каблук наборный, на медных шпильках, с подковкой. Где и взял, гад, такие?
Полчаса отплясали — ему хоть бы что, а у Сани лысина мокрая и все три оставшиеся рубахи насквозь. Стало ясно, что цыгана умеренным темпом не взять, надо предлагать свой, стремительный, с разорванным ритмом, как при штурмовой атаке, с элементами гимнастики и акробатики, подавить его психологически, а то он все норовит кружиться да руками махать, как цыганка. Сначала у него глаз еще сильнее заблестел, начал было тягаться — то на «мостике» попляшет, то вприсядку пойдет с прихлопами по полу, но таборный «оркестр» хоть и свой ему был, однако непроизвольно убыстрял темп вслед за Грязевым. Он же требовал — еще, еще, еще! И так завел цыган, что они уж и стоять на месте не могли, пританцовывая в экстазе от малого до старого. Что тут началось! Вдруг заплясала вся толпа, засвистела, заухала, и даже бронежилетные менты, стоящие на исходных позициях, хоть и не пустились в пляс, но закачались в такт и будто бы подхватили самозабвенно восторженный напев:
— Най-най-най-най-най-най!..
И сломался цыган! С достоинством сдался — встал на колено и склонил голову. Красная рубаха на спине почернела от пота, волосы черные в сосульку, затуманился масленый глаз…
В тот же миг густой торжествующий ор возреял под вокзальными сводами. И милиционеры, раздвигая толпу, пошли в круг. Неизвестно, ушел бы на сей раз Саня Грязев — за час ни разу духу не перевел, ни на мгновение ни одной мышцы не расслабил, — да вдруг схватила его за руку старая толстая цыганка и, как торпеда, пошла через толпу. Остальные же обступили ментов и такой рев подняли — в ушах зазвенело. А цыганка вытащила его на привокзальную площадь и между машин, мимо каких-то заборов, складов и сараев повлекла прочь от народа. И только приговаривала на бегу:
— Ай, рома! Хорошо пляшешь! Ай, рома! Молодец! Лишь по дороге, когда уже отдышался, вспомнил, что оставил на вокзале и сумку с нехитрыми инструментами, и кепку с деньгами. Да уж поздно было возвращаться назад. Между тем цыганка вывела его на окраину города, за железную дорогу к огромному лесоскладу, и только тут пошли шагом.
— Ай, рома, хорошо плясал! Горячее сердце у тебя! Душа вольная!
— Куда же ты ведешь меня, мать? — спросил Саня.
— А в табор, рома! Цыган посмотришь, тебя цыганам покажу! Ай, рома, молодец!
Это были настоящие цыгане, кочующие на лошадях, певчие, пляшущие, хотя и торгующие попутно на собственное пропитание. За лесоскладом у них палатки стояли, импортные, разноцветные, яркие, и повозки укрыты таким же брезентом. На палаточных веревках сушилось детское белье, рубахи, юбки; неподалеку паслось десятка два лошадей, только травы еще не было, поэтому старый цыган разносил им сено с телеги. Виделось в этом таборе что-то древнее, истинно кочевое — может, ветер вздувал шатры точно так же, как тысячу лет назад, или кони бродили такой же неторопливой поступью и дым костра курился и реял над станом. И вместе с тем отовсюду выпирала кричащая современность: повозки на автомобильных колесах, упряжь из авиационной брезентовой ленты и эти яркие туристические палатки с рекламными надписями «Мальборо», «Кэмел». Похоже, все цыгане промышляли в городе, среди палаток виднелись две женщины да старик возле коней. Старуха, что привела Грязева, велела ему подождать возле костра, сама же вошла в одну из палаток и пропала минут на пятнадцать. Тем часом от города потянулись цыгане небольшими, скорее всего, семейными группами. Шли весело, кричали и разговаривали громко и, увидев Саню, что-то радостно говорили на своем певучем и каком-то развинченном языке, но восклицали по-русски:
— Ай, рома, молодец!
Лишь потом он случайно узнал, что табор восхищался не только его пляской и победой над удалым цыганом. Под шумок, под стук каблуков и оцепенение восхищенной публики ловкие на руку кочевники основательно почистили карманы, сумочки и чемоданы зрителей. И тогда же он усомнился в своей победе — уж не спектакль ли разыграли эти кочевые артисты?