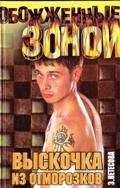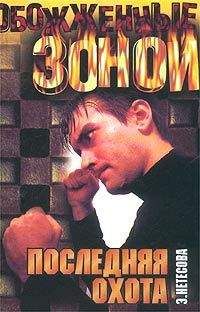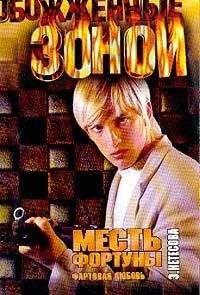— Остальное? А это что?
— Материалы, их качество и доставка… А еще оплата…
— Нет, ну это я сама…
— Наташ! Не хочу тебя обижать, но мы свой дом недавно отремонтировали. Трое нас. Все работаем. Но с материалами не скажу, что легко прошло. Так что сначала поднакопим. Иначе не осилим.
Наталья слушала, опустив голову. Не было сбережений у бабы, не имела родни. Никто ей не мог помочь. И завались дом на головы, никто не удивился бы и не пожалел.
— Герасим! Нелепо все это. Я дала объявление о знакомстве, а выходит, что запрягаю не только тебя, но и братьев. Хотя еще ничего не известно.
— Ладно, Наташ! Будь у тебя дом — дворец, ты на меня не глянула б.
— Это почему? Вон мой сорванец, ты не успел порог переступить, он уж надерзил!
— А ты сколько лет с мужем прожила? — внезапно перебил Герасим.
— Прожила два года, остальные промучилась.
— С чего он пить стал?
— Друзья сбили. А у самого характера нет, чтобы отказаться. Мы вместе учились. Он ревизором стал. Ну, при такой должности друзей надо выбирать осторожнее. Теперь их у него нет ни одного. Только бомжи.
— А дом чей? Его?
— Нет. Он мой! Николай потому и злился, что никак не мог его пропить. Только если бы меня не стало. А уж с этим он старался…
Герасим сам не сразу понял, нравится ли ему Наталья. Уж каким-то серым, вымученным показалось знакомство. Женщина много и часто жаловалась. На мужа и сына, на дом и усталость, Герасима даже злила эта бесконечная заунывность.
— Наташ! Мы две недели живем под одной крышей. А спим врозь. Знаешь, почему к тебе не тянет? Ты скучна, как дождь. И капаешь, и жалуешься. Хоть бы раз рассмеялась или накричала! Тебе ж еще до сорока целых семь лет. А ты уже старуха в душе! А ну стряхни плесень с души! Докажи, что играет огонь в крови! И назло всему — жива в тебе баба!
— Герасим, я была такой! Но подрубили…
И Герасим понял: понадобится время, чтоб ожила, поверила и выпрямилась женщина.
Шли месяцы… Вот уже и дом отремонтирован. Куплен холодильник, пылесос. Наташка смотрит восторженно. А смотреть в глаза Герасиму не решается. Ее сын категорически отказался помогать отчиму и целыми днями бездельничает. Герасим отвез его в деревню к матери. И только тогда они остались вдвоем, предоставленные самим себе.
Взрослые люди… Они растерялись в образовавшейся пустоте, смотрели друг на друга, смущаясь. Как странно, все считают их семейной парой, а они все еще не решались спать в одной постели.
«Бросит он меня, уйдет», — дрожат руки женщины. Будь она моложе, все было бы проще и легче. Но не теперь, когда годы покатили на четвертый десяток…
«Ну чего я боюсь? Обычная, как и другие, баба. Может, давно ждет, чтоб завладел ею? А что, если козлом назовет, скажет, что воспользовался ее положением? Тьфу, чертовщина! Не то главное! Вдруг у меня ничего не получится? Бабы таких сбоев не прощают», — думал Герасим. И глянул на Наталью.
Та сидела на койке в ночной рубашке. Голова и плечи опущены. Ох и невеселые мысли беспокоили женщину.
— Натка!
— Что?
— Иди ко мне! — раскинул руки и увидел, как, вытерев глаза кулаками, разулыбалась, заспешила к нему, бросилась в объятия бездумно. — Натка! Ты самая красивая! Смейся чаще.
— А ты не бросишь, не сбежишь от нас?
— И не жди! Не надейся! Я не барбос, чтоб всяк день менять конуру!
— Герасим! А Борька, кажется, привыкает к тебе. Не меня, тебя спрашивал, будешь ли приезжать в деревню.
— Это маленькое начало. Погоди, растеплится пацан!
А через две недели купил Наташке кофточку. Принес
ее, попросил примерить обнову. Баба глазам не поверила:
— Это ты мне купил?
— Кому ж еще? Конечно, тебе!
Наташка мигом ожила. Выскочила из халата, надела кофту и сразу преобразилась, помолодела, расцвела.
— Нравится?
Вместо ответа зацеловала обросшее жесткой щетиной лицо:
— Спасибо, Герка!
Герасим теперь редко приходил к братьям. Чаще они появлялись здесь, в доме Натальи, и молча помогали. Лишь однажды, когда ремонт дома был закончен и пятая партия глиняной посуды прошла обжиг, мужики решили перекурить под навесом.
— Ну как, Герка? Трет шею семейный хомут? Иль пока терпишь? — спросил Женька.
— Учусь тянуть эту тележку…
— Получается? — усмехнулся Никита, глянув на брата искоса.
— Улыбаться моя учится. То все насупленная ходила, хмурая. Все жаловалась…
— Моя Дашка, чтоб ее черти взяли, смеется раз в месяц, в день получки! Тогда она вся сверкает, как сопля на морозе. И я у нее в человеках хожу. И лучше меня в тот день никого на свете нет. Особо цветет, когда едем в деревню и заглядываем к ее старикам. Я, понятное дело, мигом к тестю в чулан, он там самогонку от тещи нычит. Ну, приложимся — за встречу по стакашке, а бабы, во лахудры, уже кличут сверху: «Вылазьте с чулана! Чё застряли?» Ну, выковыриваемся наверх. И чтоб теща не принюхивалась особо, я ей враз пакет пряников в руки. Мол, ешь, хоть задавись. А она зырь на мою руку. В ней соленый огурец — остаток закуси. Она эдак прищурится и говорит: «Ужо успели, окаянные, глынуть! Никакого терпежу нет, чтоб по-людски за стол сесть». — «Ни в одном глазу не бывало, тещенька! Я только закусь приготовил. А выпить покуда не обломилось!» — говорю ей. «Ну, дыхни! Да не вороти морду! Гля, от запаха сивухи петух с нашесту навернулся!» — «Так вот с него и спроси! Он клюет, а я только похмеляюсь», — хихикал Никита.
— А я с шуряком на сеновале! Он от девок, считай, под утро пришел. Весь в сене, в перьях, в опилках. Зато глаза что у кота и морда счастливая. Знать, кого-то уломал. Приволок на сеновал самогонку и кусок сала с хлебом. Ну и отвел я с ним душу за все полгода воздержания. И не скажи, до самого обеда вкалывал, но Аленка, стерва, подошла и засекла мигом. Вечером после бани даже глотка не дала. И говорит: «С тебя будет! С утра где-то нажрался!» Ну не скотинка? Я до обеда два стога сена перевез и скидал на сеновал, она ж перед всеми оплевала ни за что. Ну я ее наказал! Три недели спал один! Даже не подходил к ее постели. Решил мужским презрением обломать бабу! — смеялся Женька.
— Ну и что? Сдалась она?
— Сенокос закончили. Укладываю я сено, а Аленка шасть ко мне и прихватила! Куда денешься после такого воздержания? Все разом восполнил. Она хоть и чума рогатая, но своя!
— Все бабы одинаковы! Чуть помягче с ними, враз норовят на шею влезть, — понурился Никита.
— Я своей кофтенку купил. Совсем пообносилась баба. Сколько радости было! А ведь копеечная обнова! Мне самому неловко стало, — признался Герасим. И продолжил: — У всех свои слабины и радости. Я вон вина домой привез из деревни. Яблочное. Помните? Так Наташка даже не попробовала!
— Ну, она у тебя из городских! Это наши не откажутся после баньки!
— Так ладно бы вино, пиво не нюхает. Тут не в том дело, где родилась. От прежнего мужа натерпелась горя. Как мне участковый рассказал, столько воды в колодце нет, сколько она слез пролила и колотушек выдержала от него.
— Нет его рядом с вами! И хорошо! Пацан Наташки, я это сам видел, в комок сжимается при всяком пьяном крике, старается убежать, спрятаться, даже в деревне, где его никто не обидит. Та больная память годами с ним жить будет, до самой старости, как наказание.
— Нет, Женька! Не дам. Забудет он. Ведь еще ребенок!
— Дитя. А во сне плачет и мать зовет. Сам слышал, когда приезжал в деревню. Вместе на печке спали. Это его отец постарался. Ты там не перегни, слышь? Он хоть и чужой по крови, но совсем пацан…
…Герасим ворочается на сене. Ведь вот думал отдохнуть, выспаться, как когда-то, давным-давно. Но не получается. Сон оставил, веки хоть на прищепки возьми. Мужик поправляет подушку под головой.
— Что это? — Он услышал тихий, но отчетливый стук в окно дома.
«Нет, не показалось, Снова стучат. Кто бы это мог быть? Кому кто понадобился? Может, Катька меня ищет? Нет, сама не придет, не насмелится. К матери какой-нибудь старик? Такое и вовсе исключено!» Спешно, но неслышно спустился по лестнице вниз и, едва выглянул из-за угла, увидел, как из открывшегося окна во двор с кошачьим проворством вылез Борька. В двух шагах от него стояла девчонка.
«Ну и разбойник! Усы еще не пробились, а он уже с девками по ночам встречается! Скороспелки, гуды их…» Хотел вернуться, но услышал недовольный голос пасынка, приостановился.
— Чего приперлась в такое время?
— А Толика отец выпорол из-за тебя! В сарае на лавке вожжами уделал. Весь в крови, весь ободранный, голосит на целый двор.
— Я при чем? — буркнул Борька.
— Как это при чем? Ты ж с Толяном на деньги в карты играл. А где он их взял, как не у отца? А у того всякая копейка посчитана. Вот и взял Толяна за душу. Сначала тряхнул. Братуха молчал, не сознавался. Тогда отец въехал ему кулаком в ухо. Он взвыл, но не признался. Тятька сгреб его за портки и уволок в сарай. Толян смыться норовил, но не получилось. Папка привязал к лавке, сорвал всю одежу и как дал! Толику дышать стало нечем. Но молчал. Тогда тятька озверел и стал лупить со всей силы. У брата шкура на спине и жопе сразу треснула, на вожжи налипла клоками. И я не смогла стерпеть. Знаешь, что папка говорит? «Запорю насмерть, чем терпеть сына-вора!» И убил бы, если б я в руку ему не вцепилась зубами. Жалко стало Толика. Рассказала отцу, что брат деньги не себе, а тебе украл, потому как проиграл их. Тятька аж взвыл, пообещал тебя в куски порвать. А если твои мешать станут, спалит избу. Понял?