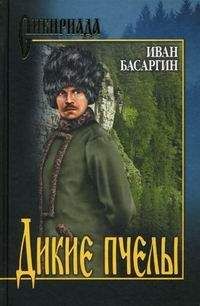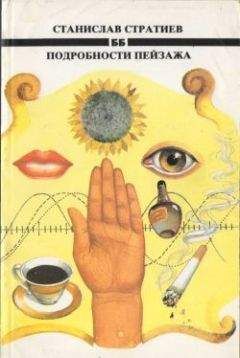Хозяйничал Евстигней — молодой партизан с редкими белоснежными зубами. Он тихо, ласково обращался с ранеными, но когда проходил мимо сидевшего на полу Лешки Проворова, лицо его суровело и пухлые добрые губы какой-то неведомой силой втягивались вовнутрь рта, словно две льдистые сосульки.
Лешка сидел у стены, откинувшись головой к бревнам, будто охлаждал разгоряченный, налитый свинцовой тяжестью затылок. Под глазами темнели синяки — результат сильного удара по переносице. Из-под прикрытых век он настороженно наблюдал за партизанами.
В один момент в дверном проеме он уловил знакомое лицо — Александра Федоровича, и как за спасительную соломинку ухватился.
— Петухов! — спекшиеся губы не сразу осилили слово. Он окликнул еще раз: — Петухов… Александр Федорович, ходь сюды…
Керен вошел в избу.
— Дай, старик, попить, — попросил его Лешка. — Нутро угольем горит…
За Кереном в дверь шагнул и Карданов.
— Знакомый мужик, — как бы оправдываясь сказал Александр Федорович. — Мы с его батькой крест-накрест на ярмарках боролись…
Дед, найдя какую-то посудину, отправился к ручью за водой.
Пока он поил Проворова, у него сформировался и спрыгнул с языка вопрос:
— Скажи, малец, всю правду — сколько ты наших мужиков положил?
Лешка, еще не оторвав жаждущих губ от воды, энергично мотнул головой. Банка вылетела у деда из рук.
— А ни! Ни одного…
— Врешь, сука! — осек Проворова Карданов. — Чем докажешь?
Александр Федорович с удивлением глянул на беженца и поразился его глазам. Такого взгляда, такой хищно-напряженной позы, такого властно-угрожающего тона в его голосе дед раньше не замечал. Даже накануне операции все было не так. Перед ним предстал совсем другой человек. И этот человек напоминал Керену других, похожих на этого Карданова людей — механических истуканов, ослепленных и оглушенных своей и всеобщей властью.
— Врешь, сука! — повторил свое Карданов. — Нагло врешь и за это ответишь, — автомат скользлул с плеча беженца в его огромную ладонь.
Проворов не ответил. Он с силой откинул голову назад, ломанув затылком по стене. Замотал головой, и в этом жесте было бессилие, безнадежность. Сомкнув до хруста в суставах челюсти, он часто заморгал, и из глаз полились слезы. Они текли, как текут в длинной череде осенние дождины.
— Я стрелял в воздух, — выговорил сквозь стон Лешка. — В небо…
— Врешь, — Карданов ткнул автоматом в щеку Проворова. — В нас стрелял…
— А, можа, он не врет, — поднялся с колен Керен. — Можа, ты, Лексеич, хочешь, чтоб так было… Разобраться надо! Растыкался тут своей игрушкой. Отойди, дай поговорить с человеком…
А Карданову как будто этого только и надо было. Он подошел к Евстигнею и что-то тому сказал. Партизан устало махнул рукой и, притулившись к поставленному на попа ящику с отбитыми у немцев консервами, закрыл глаза. Беженец пошел на выход:
— Собирайся, Керен, мы тут больше не помощники, — и опять тем же самым человеком стал Карданов — смирным, рассудительным.
Но Александр Федорович не спешил уходить от Проворова. Какие-то слова медленно подгонялись друг к дружке, и когда собралось их в достатке, дед сложил последнее напутствие: «Эх, малец, жить тошнехонько, помирать горькохонько. Сплоховал ты — это да, но если кровей из своих не пускал, гляди на свет веселей… Можа, все и обойдется…»
— Слова, Керен, слова. Все пустое говоришь, — в голосе Проворова постукивала обреченность. — Хоть ты, старик, мне поверь, через невиноватого батьку вина зануздала меня, а я — с копыт долой… Так этому, понимаешь, и суждено быть…
Верно, суждено, — Александр Федорович перекрестил Лешку, себя и пошел вслед за Кардановым…
…Когда один лапоть был готов, дед заставил Ромку его примерить. Мальчонка в спешке перепутал концы обувки и стал натягивать ее задом наперед. Керен незлобливо попенял: «Эх, Роман Фролович, какой же ты непроворыш». Но Волчонок доволен — обнова ему очень нравилась, и для пущей важности он дважды притопнул ногой, крутанулся на месте, и, не удержав равновесия, шлепнулся на пол.
С печки слышался голос Карданова. Облепившая его детвора требовала рассказа о ночных похождениях. «Слышу, летит пуля, — веселил слушателей Лука, — жужжит, я в бок— она за мной, я в другой — она за мной, я упал в куст — она меня, стерва, хвать за лоб, я — цап рукой, —ан, это жук…»
Разочарованный голос Вадима:
— Пап, а настоящих фрицев ты видел? Хоть одного в плен взял?
У Карданова слово «плен» вызвало образ Полыхаева и его намек на «попытку к бегству» захваченного полицая Лешки Проворова. Противно вспоминать ночной разговор, но вместе с тем он не мог избавиться от какого-то беспокойства…
— Одного пленного только и видел, — задумчиво сказал беженец… — Однако лучше я вам, ребята, расскажу о том, как в 22-м году я брал бандита Егорова. Фигаро — кличка такая у него была.
— Ага, расскажи, расскажи, пап, — заерзал в восторге Вадим. Притихла вся компания.
— Это был почти такой же неуловимый и лютый бандюга, как Ленька Пантелеев, — Карданов откашлялся, выбирая нужную для момента интонацию. Негромким, заговорщицким голосом двинулся дальше. — Значит, зашел я однажды в парикмахерскую побриться. Сижу в очереди, жду. Между прочим, фотографии его я не видел, но словесный портрет Егорова был у меня, вот здесь, — Карданов постучал, пальцем себя по виску. — Словом, парень кучерявый, любит духи «Шипр», на правом мизинце длинный ноготь, но главная примета заключалась в его привычке: почти при каждом слове швыркать носом. Ну точно «форсунки» прочищает…
— Каво? — не поняла Тамарка.
— Ну, шнобель… нос, дура! дал разъяснение Вадим. — Дальше, папа, дальше…
— И что вы думаете, в кресле справа, накрытый, как полагается, простыней, сидит человек, и я его отражение вдруг в зеркале уловил. И ахнул… Ну точь-в-точь бандит Егоров, кудрявый, лицо гладкое, брови углами кверху подлетели… Я замер, жду, когда он рот откроет и заговорит. Но говорить он пока не может, потому что парикмахер одной рукой держит его за кончик носа, а другой выбривает ему верхнюю губу. Сердце у меня, как дятел: тук, тук, тук… Как же, эдакого орла могу взять собственноручно. Но мне, хоть и соблазнительно повязать Егорова, однако и страшновато — у него, как минимум, два нагана при себе…
Принимаю решение не спешить. Сижу себе, жду. Слева от наблюдаемого мною объекта — еще один намыленный мужичок, тоже с курчавинкой, крепенький на вид — и я мысленно выделил его себе в помощники. Думаю, когда задержание Егорова начнется, я его и привлеку к делу.
Парикмахер между тем побрил Фигаро и приступил к паровому компрессу. А я все жду, тут ошибки, думаю, не должно быть. И вот я весь струной натянулся, от нервности зеваю — слышу, как парикмахер у него спрашивает: «Каким одеколончиком вас, гражданин, освежить?» Все во мне захолонуло, я весь внимание… «Шипром, будьте любезны», — слышу я ответ бандита. Ну, все, думаю, это Фигаро, потому что после сказанного он сделал носом вот так, — Карданов на выходе шмурыгнул носом. — И в этот момент объект наблюдения поднял правую руку и стал поправлять на виске волосы. Я аж глазами впился в зеркало: мне же нужно было рассмотреть на его мизинце ноготь… Представляете, и эта примета в точку… Я рассмотрел загнутый, что у ястреба ноготь, длинный, наманикюренный. Вот он, рукой подать, живой, неуловимый Фигаро. А как брать, у меня-то, кроме мундштука, ничего в карманах больше нет? Я ведь из дома вышел в тапочках, побриться и только. И все-таки, ребята, решаю брать Егорова. Молодой был, горячий. А чтобы хотите — семнадцать лет. Чуть старше тебя, Вадим…
— Вот это да, — с замиранием в сердце восхитилась Верка.
Вадим на нее цыкнул, и на печке снова воцарилась тишина. Правда, где-то на потолке бренчала крылышками муха да со двора доносились какие-то звуки — это Ольга на мочиле отбивала белье.
Ромка, хоть и мало что понимал в рассказе Карданова, но тоже затих, волновался… Дед Александр, склонив голову набок, плел внуку лапоть и попутно прислушивался к рассказу Карданова. А тот держал драматическую паузу и, видать, передержал: Тамарку от нервного ожидания разобрала икота. Гриха, сроду не слыхавший таких историй, с досады долбанул Тамарке между лопаток.
— Или вы стихните, или я слазю с печки, — пригрозил Карданов.
— Интересно послухать, как это ты, Лексеич, молокосос молокососом, а самого Егорова объегорил… — дед сказал это вроде бы и нейтрально, но беженец понял — Керен не верит ему ни на грош.
— Значит, на чем я, чижи, остановился? — спросил бородач, хотя прекрасно помнил, что за чем идет и за что цепляется. — Ну, да — вспомнил! Приметы все сошлись, сомнений у меня нет, однако и оружия тоже нет. Бугаек передо мной хоть куда, но, правда, и я не овсяный кисель. Одной рукой, бывало, три пуда держал и не крякал. Равные, выходит, у нас с Егоровым силы, да, пожалуй, у меня еще и внезапность. И вот я встаю со своего стула…