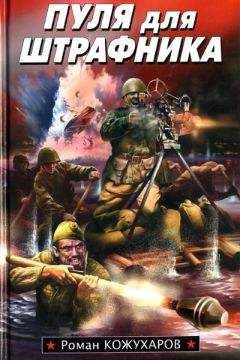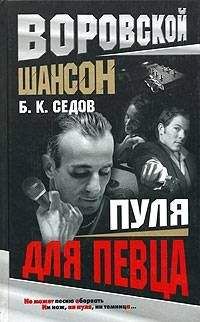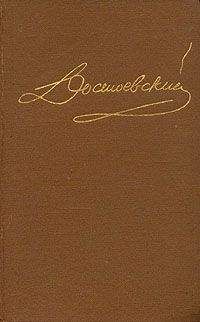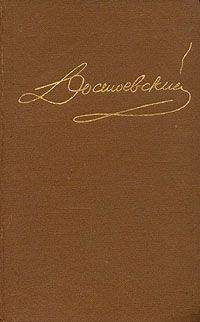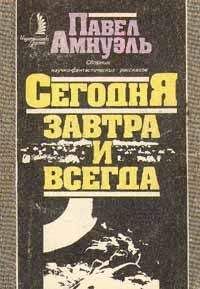Черные брови, лучики морщинок возле глаз… Лицо то самое, из ночного сна, и те самые руки. Они растирали его, а потом долго-долго снимали с кучи одежки, и в этой куче оказалась спрятана голая женщина.
Она совсем не испугалась его появления. Наоборот. Она что-то говорила ему, и глаза ее улыбались. Она смеялась.
— Да уж… тебе сейчас в самый раз — в атаку. Ну, чистый индейский папуас…
Она держала в руках нож и большую рыбу Не переставая посмеиваться, она вернулась к своему занятию: часто-часто зашкрябала лезвием ножа по спине рыбы, счищая с нее чешую.
Хагену вдруг почему-то стало нестерпимо стыдно. Наверное, у него действительно был очень смешной вид. Виновато замявшись, он прислонил к внешней стене сарая свое копье и почему-то спрятал руки за спину.
Женщина словно не обращала на него внимания. Она ловко счищала с рыбины чешую. Та летела во все стороны, налипая и на кирзовые солдатские сапоги, в которые была женщина обута. Но та будто не замечала этого. Все ее внимание было поглощено рыбой. Выпотрошенная, почти потерявшая свой, покров, рыба продолжала жить — открывала и закрывала рот, выгибала хвост.
— Смотри на нее, и живучая попалась… — походя удивляясь, закончила с ней женщина и аккуратно, одним движением, перерезала ей горло у основания жабр.
— Да, милок, каждый жить хочет… — произнесла она.
— Спасибо вам… Спасибо! — произнес солдат и, помолчав, добавил: — Меня зовут Отто… Отто.
Женщина снова выпрямилась и бросила рыбину в казан. Он висел на палке тут же, рядом, над жарко горящим костром.
— Ишь ты, опять затараторил по-своему. Уж помедленнее, по-человечески стал гутарить. А то вчерась, в бреду, язык чуть не вывихнул… И все невесту свою кликал. То ли Ольгу, то ли Хельгу.
— Хельга? — удивленно отозвался Отто. — Да, да, Хельга. Так зовут мою девушку… мою невесту…
— Ишь, как ожил сразу. «Я, я»… — с доброй иронией ответила женщина. — Оно понятно, что фройлян… А когда тебя подобрала тут, возле камышей, тебе не до фройлян было. Еще бы чуток, и околел бы фашистик… Эк тебя занесло сюда, горе ты луковое…
Говоря все это, она, не теряя времени, выбрала из садка другую рыбу, поменьше, и, вспоров ей живот кончиком ножа, аккуратно вывалила на землю кишки. Тут же, возле горки чешуи и рыбьей требухи, примостилась облезлая кошка, которая, не обращая ни на кого внимания, усиленно поглощала отходы чистки. Отто почувствовал, как спазмы голода до боли свели его пустое брюхо.
Для Отто было странно и удивительно услышать имя Хельги из уст этой незнакомой ему женщины. Тем более что говорила она не по-русски. Напоминала ее речь разговоры румынских солдат, только звучала она мягче, вкрадчивее. Будто напевная мелодия колыбельной песни, которая проникала в самую душу.
Эта женщина спасла ему жизнь. Она не дала ему замерзнуть. Хагену вдруг захотелось узнать, как ее зовут. Она тоже должна знать его имя.
— Меня зовут Отто. Отто…
— Ишь заладил: ато, ато… Как попугай.
Отто терпеливо повторял, тыча себя в грудь пальцем:
— Меня зовут Отто… Отто…
— А, это кличут тебя так… — догадалась женщина и покачала головой. — Ото. Что за имя такое? И придумают же имена такие… Ну, нехристи, чистые папуасы…
— Меня зовут Отто… А как вас зовут?…
Хаген продолжал стучать в себя пальцем.
А потом указал пальцем на нее.
— Да поняла уже… Ото… поняла… А-а… ты про меня узнать хочешь? Ишь чего, знакомиться удумал…
Женщина что-то говорила, не отрываясь от своего дела. Она чему-то улыбалась и покачивала головой.
— Как вас зовут?
— Вера меня зовут. Ве-ра. Понял, фашистик?
— Ве-ра, Вера… — повторил Отто, словно пробуя имя своей спасительницы на вкус. Одежда и платок сильно ее старили, по лицу, глазам и коже рук, сохраняющей белизну и гладкость, Отто сообразил, что лет Вере не больше сорока.
— Помолись за моего Василию… его вот забрали в Красную Армию, чтобы вас бить — немчуру и румын треклятых. Вы еще ничего, культурные, а эти нехристи — сплошное ворье кудлатое… Ишь, господа выискались — из грязи в князи… Да у нас цыгане таборные, когда останавливались у села, чище были и вели себя порядочнее. Вот уж пришли наши, освободили, теперь дадут вам перцу.
Женщина все что-то говорила. Вдруг она замерла, словно вспомнила о чем-то очень важном. Даже забыла про свою рыбу.
— Ой, горе мне… мужика при начале войны убило, а теперь и старшенького забрали, кровинушку мою. Это любимый наш… Мы со Степаном из-за него и оженились. Как понесла от него, а мне только семнадцать исполнилось… Отец мой шибко был против, чтобы дочка его замуж за хохла выходила. Все кричал: «Мало тебе молдаван на селе». А как про внучка узнал, сразу отошел… И согласился. Так-то вот, Ото…
Женщина глубоко вздохнула и опять принялась за чешую.
— Это, выходит, сын мой сейчас чуть старше меня тогдашней. А Степан. Ему ж и восемнадцати еще нет. Ты-то, фашистик, все одно постарше намного его выглядишь… А мне еще двух дочек малых кормить, и свекровь еле ходит… А тут ты еще на мою голову свалился. Как змей водяной из Днестра выполз. Вылитый лаур-балаур.
— Спасибо вам, Вера… За то, что меня… за то, что меня отогрели… — тихо произнес Хаген,— И за одежду… за то, что почистили и высушили…
Он вдруг вспомнил ее упруго колыхнувшуюся, большую грудь, все ее обнаженное тело, на котором плясали красные отсветы печного пламени. Вера, прищурив глаза, внимательно на него поглядела.
— Чего это ты там зашептал? И вид такой застенчивый… Теперь тебе уже стесняться нечего. Чай, мужик, а не дитя несмышленое. Убивать, небось, научился… А думать про всякое забудь. Что было, то было… А больше ничего тебе не светит. Эх ты, горе луковое, свалился на мою голову. Подыхал бы там себе, на бережку, не маялась бы… Так нет, сердца своего послушалась. А теперь вот еще и корми тебя, вместо того чтоб детишкам и старухе еды отнести. Нечего тут бездельничать, на-ка вот кадушку, принеси из бочки воды, там, за сараем, бочка с дождевой водой стоит. Сейчас уху есть будем…
Отто по указывающим жестам сообразил, чего от него хочет Вера. Послушно взяв деревянную кадушку, он сходил к бочке. С крыши сарая в нее был сооружен слив. Аккуратно стянув служивший крышкой широкий железный лист, он зачерпнул полную кадку студеной прозрачной воды. Она была золотисто-янтарного цвета и пахла дубом.
Ароматнейший запах наваристой ухи из бурлящего казана заставлял Отто жадно втягивать сырой весенний воздух.
— Ага, принес, солдатик, — приветливо встретила его женщина. — Ну, вот, теперь добавь чуть-чуть, а то выкипело. Хотя нет, стой, дай, я сама, а то еще не поймешь ничего…
Перехватив из его руки кадушку, Вера осторожно добавила в казан воду почти до самого верха.
— Вот так… Теперь сиди и следи за костром. Если надо, дровишек подкладывай. Понял, служивый? Вишь, именами вашими фашистскими язык не ворочается тебя называть.
У стены сарая лежал ворох валежника, ветки и сучья. Женщина выбрала из кучи толстую сухую ветку и, уверенным движением переломив ее о колено, подложила куски в костер. Все это она делала демонстративно, показывая Отто, что он должен будет делать. Хаген закивал, давая понять, что с задачей справится.
— Ну вот, тебе тут забот на час хватит. А я пока схожу на реку, верши проверю, может, чего для своих выловится. Не помирать же им из-за фашистика с голоду… Только сиди тут, никуда не ходи. А то, не дай бог, попадешь на наших, — и самого шлепнут, и меня еще под монастырь подведешь.
Женщина скрылась в сарае и спустя некоторое время опять вышла наружу. В одной руке она держала тяжелый моток сетей, а в другой — несколько веточек засушенной травки. Помяв и перетерев ее в ладони, Вера высыпала травку в казан.
— Вот… леуштяна добавим, для вкусности. И чтоб любил ты свою фройлян, и на других девок не заглядывался…
Женщина поднесла ладонь, которой растирала траву, к лицу и вдохнула.
— Ох, и вкусно же пахнет. Неужто и эту зиму пережили. Скорей бы война проклятая кончилась. Чтобы мой Василикэ скорее домой вернулся… Ох, спаси и сохрани.
Она протянула ладонь Хагену, жестом показывая, чтобы он тоже понюхал. Отто с готовностью поднес нос к ее ладони. Ноздри заполнились духмяным ароматом зеленого луга, нагретого горячими лучами знойного лета. Потом женщина достала из кармана маленький пузырек. Склянка из-под лекарства, заткнутая пробкой. Внутри было что-то белое, рассыпчатое. Соль!… Женщина осторожно откупорила ее, словно там содержалось нечто драгоценное.
— Соль нынче на вес золота. Я у батальонного обозника сменяла. На рыбу… — отсыпая в подставленную лодочкой ладонь горку соли, рассуждала Вера. — Все допытывался, как это я такая рыбачка заделалась. Да только рыбачка я никакая. Вот мужик мой был рыбак. Таких сомов притаскивал домой. Одному управиться было не в мочь, соседей звал, чтобы дотащить пособили. Карпов, стерлядь носил… Коптильню держали. И для себя, и в Тирасполь возили, на базар продавать. Даже в Одессу два раза с ним ездили. От него заимка эта осталась. Кабы не она, войну нам не пережить. Рыба и кормила. Ни один румын про заимку мою не прознал. Хорошо Степан ее упрятал… И нашим зазря знать про нее нечего. Этот, обозник который… Все просил на рыбалку его взять. Известное дело, что у него за рыбалка на уме. Так я ему сказала: «Ты, мол, фрицев сначала разбей, а потом на рыбалку намыливайся». Это вас, значит. Ох, скорей бы уже вашему Гитлеру хвост оборвали… Чтоб мой Василию домой вернулся, целым и невредимым.