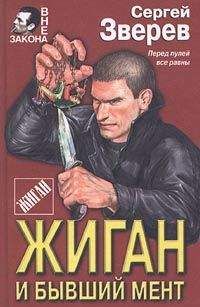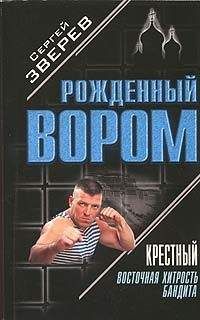Константин Панфилов долго обдумывал вопрос о том, как поступить с Белоцерковским.
В том, что ГБ мечтает о его смерти, Жиган не сомневался. Он понял игру Белоцерковского и лишний раз убедился, насколько любит ГБ добиваться своих целей чужими руками. Панфилов таких людей не уважал. Он тоже умел заставлять других делать то, что ему нужно. Но одно дело – в бизнесе, другое – в драке. Бизнесом Жиган уже давно не занимался, обрыдло.
Деньги не нужны были Жигану. Он не стремился к комфорту, развлечениям и сибаритству. Все это он видел и не ощутил во всем этом особой для себя ценности. Все блага жизни преходящи и условны, понял Жиган. Сегодня ты купаешься в роскоши, но это не гарантирует от того, что завтра не на что будет купить кусок хлеба. Да и что такое роскошь?
Для одного это – возможность раз в неделю покупать мясо для своих детей, а для других – вилла на Лазурном берегу или приобретенный в собственность средневековый замок в Центральной Европе. Вот к таким и принадлежит Глеб Абрамович Белоцерковский. Конечно, стоило бы его наказать. Как бы он ни берегся, наказать его можно.
Можно даже убить, хотя достаточное ли наказание – быстрая и легкая смерть для человека, слово которого отправило на тот свет не один десяток людей? С понятием справедливости, для Жигана очень важным, это совсем не сочетается.
Самым страшным наказанием для Белоцерковского было бы… Константин на секунду задумался. Да что тут думать – самое страшное для него – лишиться своих денег. Стать нищим и бездомным.
Не жизненные тяготы, не голод и холод будут терзать Глеба Абрамовича, а осознание того, что все его деньги пропали, достались кому-то другому. А вместе с деньгами ушла вся его сила и уверенность в себе… Вот такое наказание для Белоцерковского было бы подходящим.
«Опять деньги, мать их! – выругался про себя Константин. – Не хочу больше думать про деньги, ни про свои, ни про чужие».
Нет, он не будет наказывать Глеба Абрамовича. Пошел бы он к черту! От него, как и от Лилечки, требуется только одно – чтобы он оставил Панфилова в покое.
Панфилов докурил сигарету, щелчком отправил окурок в урну и достал сотовый телефон.
– Глеба Абрамовича, – сказал он ответившему ему секретарю. – Скажете, его старый знакомый звонит.
– Господин Белоцерковский сейчас занят. Он на заседании Государствен…
– Слушай, ты, вша на лысине! – перебил его Жиган. – Если ты сейчас же не соединишь меня с Абрамычем, через десять минут можешь собирать манатки и катиться ко всем чертям – тебя уволят! Ты меня понял? Вызови его с заседания, мне надо с ним спокойно поговорить. Обойдется, примут без него пару законов, ничего страшного. Скажешь, что нас с ним познакомил Шульгин.
Фамилия недавно погибшего Шульгина произвела на секретаря должное впечатление. Белоцерковский строго приказал о любой информации, связанной с Шульгиным, тут же ставить его в известность в любое время. Будь он хоть в бане, хоть в кровати с женой, хоть на приеме у президента. Как можно было бы что-то сообщить Белоцерковскому во время его встречи с президентом, секретарь представить себе не мог, но сейчас, слава богу, случай был другой, всего лишь заседание Думы.
– Ждите, – буркнул секретарь и отправился в зал заседаний.
Голос Белоцерковского раздался минуты через полторы. Судя по некоторой учащенности дыхания, можно было подумать, что он выбежал из зала. Впрочем, Глеб Абрамович всегда двигался стремительно.
– Я слушаю! – нетерпеливо сказал Белоцерковский. – Кто это?
– Вот что, Абрамыч, – твердо произнес Константин. – Я думал, ты слово свое умеешь держать. А ты Шульгина опять подослал ко мне. Ты меня разочаровал. Я думал, ты хоть чуть умнее.
– Я никого к тебе не посылал! – воскликнул Белоцерковский. – Мамой клянусь.
– Деньгами своими клянись! – усмехнулся Жиган. – Только мне клятвы твои до лампочки. Словом, готовься, Абрамыч. Достал ты меня! Хотел я в живых тебя оставить, но ты, видно, не ценишь моего к тебе хорошего отношения, пакостить продолжаешь.
– Плохо слышно! Я не понял, что ты сказал, – перебил его Белоцерковский.
Он судорожно достал второй телефон и набрал номер, положив аппарат себе на колени.
– Повтори, что ты сказал! – выкрикнул он, оглянувшись по сторонам.
Коридор рядом с залом заседаний был пуст. Только фигура секретаря маячила на другом его конце у лестницы. Секретарь свое дело знал – когда шеф разговаривает по телефону, ему положено держаться на расстоянии, чтобы не слышать, о чем идет разговор.
– Не валяй ваньку, Абрамыч! – ответил Панфилов. – Можешь теперь прятаться хоть в своем сейфе, я тебя достану…
– Срочно засечь абонента, с которым я разговариваю, – еще раз оглянувшись, вполголоса сказал Белоцерковский во второй аппарат, как только ему ответили. – И заткнуть его. Все!
– Подожди, Панфилов, – сказал Белоцерковский. – Так дела не делают. Шульгин меня тоже обманул, это он сам, клянусь мамой, сам, без моего приказа все делал. Я вообще не знаю, чего он добивался. Я хотел только помочь тебе. Я помню разговор, который мы вели тогда, в бассейне. Мне показалось, что мы поняли друг друга. Я и сейчас готов помочь тебе, ты же знаешь, что я человек справедливый. Я уже кое-что установил. Мне в общих чертах понятна проблема, которая тебя зацепила. Если хочешь, я могу рассказать прямо сейчас. Только для того, чтобы ты мне поверил. Это все деньги Генриха Воловика. Его вдова…
– Закройся, Абрамыч! – перебил его Панфилов. – С этим я сам разберусь. А тебя я предупредил. Заказывай место на Новодевичьем. Или ты хочешь быть похоронен в другом месте? Дело твое. Но с этой минуты я начинаю на тебя охотиться. А ты знаешь, что это такое. Мои враги долго не живут. Все, привет! До скорого свидания с моей пулей!
– Подожди! Панфилов! – попробовал задержать его в эфире еще на несколько секунд Белоцерковский, но в трубке уже слышались сигналы отбоя.
– Говно! – возмущенно крикнул Белоцерковский. – Говно! Я тебя… Я тебя раздавлю!
Глеб Абрамович вновь лихорадочно набрал номер и закричал в трубку:
– Засекли? Где он?
Выслушав ответ, Белоцерковский сунул телефон в карман и удовлетворенно потер руки.
– До свиданья, мой друг, до свиданья!.. – фальшивым тенором пропел он, направляясь в зал заседаний.
Секретарь кинулся к нему.
– Обо всех звонках от Шершеля докладывать мне незамедлительно, – сказал Глеб Абрамович. – Я жду очень важную информацию.
Шершель только вчера занял место, освободившееся после смерти Шульгина. Место исполнителя всех тех дел Глеба Абрамовича Белоцерковского, которые к самому Белоцерковскому не должны иметь никакого отношения.
Панфилов выключил телефон, подержал его на ладони, посмотрел на него внимательно. Он понял, что Белоцерковский специально тянул время и болтал все подряд для того, чтобы Панфилов подольше не отключался. Зачем он это делал, понять было нетрудно.
Панфилова наверняка засекли и сейчас какой-нибудь головорез из команды Глеба Абрамовича мчится сюда, чтобы всадить ничего не подозревающему, как полагает Белоцерковский, Константину пулю в затылок. Ничего у вас не выйдет, господа!
Константин бросил телефон в урну, в которую только что отправился окурок, и спокойно пошел по бульвару, обдумывая мысль, которая давно пришла ему в голову, но на которую у него все не хватало времени.
Он не хотел убивать Белоцерковского, он рассчитывал его только напугать, в надежде, что тот оставит его, наконец, в покое. Константин не хотел драться и с охранниками вдовы Воловика, защищая свою жизнь от слишком агрессивной вдовушки. Но остановить их было не в его силах.
Какие бы слова он ни искал, какие бы клятвы он ни произносил, его не оставят в покое. Это судьба! Он или умрет сам, или будет вынужден раз за разом убивать других, пока ему это не надоест окончательно и он сознательно не подставит свой лоб под пулю только для того, чтобы эта суетливая возня наконец прекратилась.
Чтобы всего этого избежать, у него был один только выход – исчезнуть самому, превратиться в другого человека.
«Сейчас это можно, наконец, сделать, – подумал Константин. – О Серже и о том, что он связан со мной, практически никто не знает. Об этом, пожалуй, знала только Наташа, но…»
О Наташе думать не хотелось.
Она ушла из его жизни, как прежде уходили другие женщины, оставив после себя сложное ощущение. Это были и воспоминания о том, как им было хорошо вдвоем… Нет, не только в постели, хотя и в постели было хорошо.
Он помнил их прогулку в Сокольниках и чувство мальчишеской влюбленности, которое на него вдруг накатило. Это было… глупо, но хорошо.
Но, кроме этого, в памяти всплывали и другие моменты – Наташино лицо вдруг отдалялось и покрывалось безжизненной маской раздражения, за которым стояло отчуждение. К сожалению, она чаще была ему чужой, чем близкой. Он не мог бы назвать ее любимой женщиной, как он называл Татьяну, а потом Маргариту…