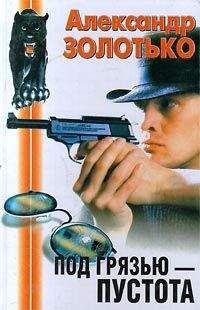И еще эта записная книжка Палача, наследство, как он ее назвал. Что там? Гаврилин в первые же минуты пребывания в своей палате засунул ее в матрац. На всякий случай. Выздоровеем – посмотрим. Пока с него достаточно материалов по предстоящей операции. Отдохнете, Саша, и вот тогда уж, с новыми силами… Как же, как же! Не успел человек прийти в себя, как ему тут же ненавязчиво суют папку с биографиями и фотографиями типов малоприятных и малоинтересных. Слава Богу, хоть не долго пришлось пялиться в истории жизни городских уголовников. Самых сливок общественного дна.
Ты, мужик, сам-то понял, что сказал? Гаврилин закрыл глаза. А что вы хотели от смертельно раненного героя невидимого фронта? Герой хочет спать, герой хочет… Герой много чего хочет. Хорошо еще, что Хорунжий из соображений секретности папку увез до следующего посещения. А то ведь дисциплинированный Гаврилин не взирая на страшные боли в героически простреленной и прорезанной груди, лежал бы и тупо пялился в интеллектуальные лица авторитетов. И, кстати, обидно. Первоначально, еще до того, как отношения с Конторой стали официальными, предполагалось, что он будет спасать отечество от врагов политических и, скорее внешних, чем внутренних. А с уголовниками…
В дверь постучали. Три раза, с небольшим интервалом, легко. Лизавета. Классная все-таки больница. Даже медсестры и те стучат перед тем как войти в палату. Это если вдруг больной займется чем-нибудь непотребным.
– Да, – сказал Гаврилин и скомкал одеяло на груди. Нельзя себе отказывать в маленьких радостях.
– Скучаете? – спросила Лизавета.
– Еще как!
– Тогда к вам компаньон.
– Неужели ваше руководство сжалилось и решило поставить сюда двуспальную койку? Тогда я буду требовать вашего назначения на вакантную должность ночной сиделки.
– Лежалки, – сказала Лизавета.
– О позе договоримся дополнительно, – с мечтательным выражением лица сказал Гаврилин.
– Ловлю на слове, – совершенно бесстыдно улыбнулась Лизавета, – а пока мы к вам подселим еще одного больного.
Лизавета подошла к пустовавшей до этого койке и сняла покрывало.
– А мне одеяло поправите, Лизонька? – спросил Гаврилин.
– Обязательно.
– Привет! – прогремело от двери.
– Вечер добрый, – ответил Гаврилин.
Ничего так напарник, уверенный в себе. Гаврилин ответил на крепкое рукопожатие, отметил, что сила у парня есть.
– Ты здесь давно? – спросил новенький.
– С первого января.
– С самого праздничка. И как здесь?
– Жить можно.
– А с кем?
– Чур, Лиза моя, – сказал Гаврилин и погладил Лизавету по руке, за что был награжден улыбкой и более длительным чем обычно, созерцанием колышущегося бюста.
– Это мы еще посмотрим, – заявил новенький, а когда совершенно довольная Лизавета вышла, примирительно сказал, – на чужих женщин я никогда не лез. Никита.
– Что? А, Саша, – Гаврилин еще раз пожал руку, – Гаврилин.
– Колунов.
– В детстве дразнили Колуном?
– Ничего подобного, – Никита засмеялся, – до сих пор с самого детства друзья зовут Клоуном.
Гаврилин тоже засмеялся. Слава Богу, теперь хоть будет не скучно.
– Тоже гепатитчик? – спросил Гаврилин.
– Ага, – Клоун ткнул пальцем себя в плечо, – навылет, огнестрельный.
Ни черта он не скажет. Даже если что-нибудь вспомнит. Следователю это было понятно с самого начала. Но обряд должен быть выполнен. Следователю было скучно, скукой сочились запотевшие окна кабинета, скука пропитала стены, оклеенные выгоревшими обоями. И голос свидетеля, музыканта из ресторана «Старая крепость» Сергея Головина, тоже был невообразимо скучен.
– В одиннадцать часов все началось.
– В двадцать три ноль-ноль? – переспросил следователь.
– Не, минут в десять двенадцатого. В двадцать три десять, примерно.
– Такая точность! – следователь изобразил на лице нечто вроде улыбки, и такое же подобие улыбки как в зеркале появилось на лице музыканта.
– В одиннадцать мы начали мероприятие. Рита чего-то там сказала праздничное…
– Рита – это…
– Наша танцовщица, Маргарита… тьфу ты… Зимина.
– Продолжайте.
– Потом мы дали первую песню, и как раз между первой и второй все и началось.
– Между первой и второй перерывчик небольшой.
– Да, минуты полторы… – музыкант снова улыбнулся, демонстрируя следователю, что оценил его чувство юмора.
– Сколько это продолжалось?
– Что?
– Когда началась перестрелка в зале?
– Вот этого я точно сказать не могу. Мне показалось, что все это продолжалось несколько дней.
– Угу, – следователь кивнул. Дверь кабинета распахнулась, и появившийся на пороге капитан милиции выразительно постучал по наручным часам пальцем.
– Сейчас, – бросил следователь, дверь закрылась, – сколько человек, как вы говорили, помогли вам всем бежать?
Музыкант тяжело вздохнул. Все это он рассказывал уже трижды:
– Двое. И еще один из тех, кто нас захватил.
– Один из нападавших… – записал следователь.
– Тот, который убил нашего повара и официанток.
– … повара и официанток. И?
– Все. Мы потом побежали, а они все остались.
– … остались. Ознакомьтесь и подпишите.
Музыкант взял протянутые ему листы бумаги и, не читая, подписал их.
Следователь посмотрел на подпись, кивнул, расписался на бланке пропуска и отдал его свидетелю:
– Если что-то вспомните – позвоните.
– Обязательно, – сказал музыкант.
И он, и следователь прекрасно знали, что даже если музыкант и выкопает что-нибудь в своей памяти, то кабинет следователя будет последним местом, куда он эту информацию понесет.
Чего допрашивают, думал музыкант по пути к выходу из управления. И так все ясно – нарвался Солдат на парней покруче себя, вот и все. А то еще может быть, что сами менты его и грохнули.
А что, может, так оно и было. Музыкант поднял воротник и вышел на улицу, в пропитанную холодом и сыростью темноту.
Даже возле управления фонари не горели. Музыкант прошел по тротуару до угла, ступил на мостовую. Под ногой плеснуло.
Утонуть можно, зло подумал музыкант и пошел через дорогу, не обращая уже внимания на брызги. Дома приму сто пятьдесят и согреюсь.
– Головин? – рядом с музыкантом выросли две темные фигуры.
– Что?
– Вы гражданин Головин?
– Да.
– Поехали.
– Я только что от следователя…
– А нам насрать, – темная фигура справа приблизилась, и музыкант уловил тяжелую смесь перегара и табака, – сам в машину сядешь, или тебя туда вкинуть?
За спиной притормозила машина, щелкнула дверца.
– Садись.
Музыкант оглянулся по сторонам, но улица была пустой. В бок что-то больно уперлось.
– Не умничай и садись.
Музыкант обреченно вздохнул и подошел к машине.
Из открытой дверцы пахнуло теплом, табачным дымом. Довольно громко звучала музыка.
«Отель Калифорния», отметил музыкант автоматически и наклонился перед дверцей. Стоп. А куда это его и кто?
Он выпрямился и обернулся:
– А куда?
– За кудыкины горы, – один удар пришелся в солнечное сплетение, второй чуть пониже затылка. Музыкант не упал только потому, что его подхватили и быстро впихнули в машину.
Один человек сел на заднее сидение рядом с ним, второй – на переднее, возле водителя.
Пришел в себя музыкант только тогда, когда в лицо ему плеснули чем-то холодным, с сильным запахом мазута.
– Живой? – спросили откуда-то сверху.
Глаза были туго завязаны. Болела голова, подташнивало, на попытку подняться, запястья, стянутые чем-то за спиной, отреагировали острой болью. Музыкант застонал.
– Живой. У нас к тебе несколько вопросов.
Чьи-то руки сзади рывком подняли музыканта на ноги. Ноги держали слабо.
– Посади его на ящик, – сказал тот же голос.
За спиной музыканта что-то чиркнуло по полу и не сильно ударило его сзади по ногам.
– Присаживайся.
– Спасибо, – автоматически сказал музыкант.
– Потом поблагодаришь, – кто-то глухо хмыкнул за спиной, – а пока расскажи нам все о Новом годе.
Опять, подумал музыкант. Только на этот раз это не милиция. Точно – не милиция.
– Так я это…
– Уже ментам все рассказывал?
– Три раза уже!
– А нас, значит, не уважаешь? – голос спокойный, без угрозы.
– Нет, я…
– Что?
– То есть, да, уважаю. Просто…
– Просто ты к нам не хочешь относиться серьезно.
Музыкант почувствовал, как по спине потек пот.
– Я… серьезно, честно, я…
– Ухо, – спокойно сказал голос, и музыкант закричал.
Что-то будто раскаленным металлом обожгло голову слева, по щеке и шее разом потекли струйки чего-то горячего.
– У нас мало времени. А у тебя мало ушей. Потом мы займемся пальцами, а потом уже и твоим хозяйством. Это сможет благотворно отразиться на твоем голосе. Ты же у нас еще и певец?
Музыкант всхлипнул, рану жгло, страх и безысходность комком подкатились к горлу.