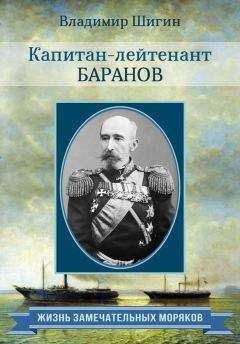– Вадим, у нас в управлении сегодня умер один очень старый полковник, чем он занимался, вам знать не обязательно, неважно… Так вот, этот полковник всю свою службу отказывался от орденов, почестей, звезд и генеральских лампасов…
– Он был шизоид? – заинтересованно спросил Николай Степанович.
– Он был гений! – ответил Толмачев. – Он тяжести всей этой боялся… Тяжести почестей, звезд, орденов… Поздравляю, Вадим, что ты прошел чистилище достойно, не сломался!.. Желаю, чтобы и тяжесть погон, наград и почестей не сломала тебя!
– Постараюсь! Но нелегко это будет… – ответил Савелов и отвернулся к окну.
– Почему? – осведомился Николай Степанович.
– Потому… что наша действительность – сплошная помойка! – выдавил Савелов.
– Это у тебя пройдет! Просто ты много перенес, и состояние у тебя сейчас почитай что шоковое. Но время все лечит, залечит и эти раны, – тоном, которым разговаривают с непонятливыми детьми, говорил тесть. – А действительность создаем мы сами…
Савелов криво усмехнулся и перевел взгляд на Толмачева.
– Ну, чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось! – бесшабашно воскликнул тот и, выдохнув воздух, не поперхнувшись, отпил полстакана спирта и запил его водой.
– А ты, оказывается, спец, Сергей Иванович! – восхищенно заметил Николай Степанович.
– Между прочим, я свой первый орден, на корейской войне полученный, тоже спиртом обмывал, – ответил тот. – А спирт, надо сказать, у корейцев этих жуть какой крепкий! Мы его гвоздодером называли. По странному совпадению в Корее нашей разведротой командовал лихой один капитан по фамилии Сарматов. Не шучу – Алексей Платонович Сарматов.
Толмачев встретился взглядом с испуганными глазами Риты, которая инстинктивно еще крепче прижала к себе ребенка.
– Погиб тот капитан. Со связкой гранат под американский танк бросился, чтобы мы, желторотые «китайские добровольцы», живы остались, – тихо добавил генерал.
Савелов посмотрел на Толмачева, потом перевел взгляд на Риту, у которой опять подступили к глазам слезы, и, опрокинув в рот остатки спирта, опустил голову.
– Хотели праздника, а получили поминки! – окинув присутствующих осуждающим взором, буркнул Николай Степанович.
Его слова повисли в воздухе.
Тихо позвякивая удилами, мерно шагали друг за другом верблюды. Качался в такт их шагам над заснеженными вершинами близкого хребта перевернутый серп полумесяца. Таинственно мерцали на аспидно-черном южном небе крупные звезды. Неслись издалека плач и вой шакалов. Шуршала под натруженными мохнатыми ногами верблюдов бесконечная горная тропа, и старый погонщик, раскачиваясь у верблюжьего горба, пел такую же бесконечную, как дорога, жалостливую песню, кидая время от времени сонный взгляд на притороченные к лохматому верблюжьему боку носилки, к которым был привязан забинтованный с головы до пят человек. Иногда старику-погонщику казалось, что человек уже не дышит, но потом он замечал поблескивающие в прорезях бинтов, устремленные к звездному небу глаза и успокаивался.
– Мутталиб-ака, когда же Пешавар? – раздался голос погонщика верблюда, который шествовал позади.
– На повороте – карагач, – прервал пение старик. – От него до города ровно два перехода.
– Завтра я наконец-то увижу новорожденного сына! – радостно воскликнул вооруженный молодой парень, качающийся на соседнем верблюде.
– Если на то будет воля Аллаха! – вздохнул старик и снова завел свою бесконечную песню.
– Мутталиб-ака, а твой забинтованный человек, может, гяур, а? – снова прервал старика сосед.
– Зачем тебе знать, кто он? – ответил старик. – Человек, и все…
– Он всю дорогу молчит, может, он немой? – не унимался молодой.
– Это ты должен молчать! Тебе за это заплатили! – сердито прикрикнул старик. – Услышат твою болтовню люди Али-хана, аскер, отрежут твой глупый язык, вырвут твои бараньи глаза! И ты никогда не увидишь своего сына!..
– О Аллах, не дай случиться такому! – воскликнул в испуге молодой погонщик и замолк.
– Аллахумма! Ля сахля илля ма джа, альтаху сахлян. Уа-нта тадж, ауль-хузна иза ши, та сахлян, – пробормотал по-арабски старик и повторил для аскера, своего послушника, на фарси: – О Аллах! Нет легкого, кроме того, что ты сделал легким. А ты, если захочешь, и горе сделаешь легким.
От его монотонного бормотанья человек на носилках закрыл глаза и постепенно погрузился в дремоту…
…Сквозь морок видится Сарматову знакомая картина давно ушедшего детства.
Солнце стоит в самом зените. Высоко в небе заливается жаворонок, и от его звонкой песни густой полуденный зной кажется еще жарче. Только пропитанный летним хмелем ветерок изредка волнует серебристые пряди степного ковыля.
Внезапно в звенящую степную тишину врывается громкое конское ржание. Черной стрелой вылетает на бескрайнюю зеленую равнину конь. Он не просто бежит по земле, а словно парит над ней. Крепко вцепившись в удила, словно вросши в седло, верхом на коне несется пацаненок. И на много верст оглашает ровную, как стол, степь ликующий детский крик:
– Дава-а-ай! Че-о-ортушка-а-а!..
* * *
– Эй, проснись, – Мутталиб-ака аккуратно потряс за плечо перебинтованного с ног до головы человека. – Нужно тебе поесть что-нибудь, а то я не смогу довезти тебя до Пешавара живым. Тогда Али-хан убьет всю мою семью. Ты ведь не хочешь, чтобы это случилось, правда? Зачем тебе этого хотеть?
Сарматов не понял ни слова из того, что сказал старик, но запах жирной бараньей похлебки говорил сам за себя. Превозмогая боль, майор приподнялся на локте, и старик начал его кормить.
– Вот так, ешь, набирайся сил… – бормотал Мутталиб-ака, наблюдая, как его подопечный с жадностью поглощает горячий бульон, еле пережевывая куски мяса и глотая их почти целиком. – Да-а, где-то хорошо тебе досталось. Другой бы на твоем месте уже давно отпустил свою душу к Аллаху. А ты свою очень крепко держишь. Видно, не все ты еще сделал на этой земле, что тебе на роду написано.
– О чем ты там с ним разговариваешь? – спросил, посмеиваясь, у старика молодой парень. – Он, может, и не понимает ни слова из того, что ты ему говоришь.
– Может, и не понимает… – кивнул Мутталиб-ака. – Но, поверь мне, ты и сам понимаешь меня не больше, чем этот человек. Только он обычаи знает и не смеется над старшим. Так что не мешай мне беседовать с ним, Махмуд.
Махмуд пожал плечами и отошел от старика.
– Ужасные времена, ужасная война… – продолжал рассуждать старик. – Сколько сильных, здоровых мужчин погибло на этой войне. Сколько жен овдовело, сколько матерей потеряло сыновей, сколько детей осиротело… Почему Аллах вообще допускает, чтобы люди убивали друг друга? Разве нельзя, чтоб все жили в мире? Вот теперь мы побеждаем в этой войне, ну и что? Кто может поручиться, что, выгнав с нашей земли гяуров, наши командиры тут же не вцепятся друг другу в глотку, не сумев поделить между собой власть?
Сарматов ел и слушал старика. Он по-прежнему ничего не понимал, но говорил старик таким мягким и спокойным тоном, что Сарматов невольно проникся к нему доверием и уважением.
– Ну, как он? – услышал Мутталиб-ака голос за своей спиной. – Ему не лучше?
Голос этот заставил старика вскочить на ноги и согнуться в подобострастном полупоклоне.
– Нет, не лучше многоуважаемый Али-хан, – скороговоркой пробормотал старик, потупив взор. – Но ему пока и не хуже.
– Может, ты плохо ухаживаешь за этим человеком?! – грозно вскинул брови Али-хан. – Если с ним случится что-нибудь, я просто запорю тебя до смерти, так и знай! Я специально выехал из Пешавара вам навстречу, чтобы справиться о его здоровье. Если этот человек благополучно доберется до Пешавара, я заплачу тебе хорошие деньги, старик.
– Воля твоя, Али-хан… – еще ниже согнулся в поклоне старик. – Но поверь мне, мы и так должны благодарить Аллаха за то, что этот человек жив до сих пор. Разве ты сам не видишь, как тяжело он изранен, как много крови он пролил?..
– Что правда, то правда… – немного помолчав, согласился Али-хан. – Хоть с виду он и не кажется могучим, сил в нем, как я посмотрю, хватило бы на десятерых.
Когда Али-хан ушел, Мутталиб-ака облегченно вздохнул и присел на землю.
На поясе у старика висел старый обшарпанный штык-нож от «калаша». Сарматов пристально смотрел некоторое время на этот нож. Потом, увидев, что старик отвернулся, он попытался дотянуться до него дрожащей рукой. Но сил у Сарматова хватило только на то, чтобы протянуть руку, которая бессильно упала, едва дотронувшись до вожделенного ножа. Как раз в этот момент старик повернулся к раненому и, перехватив его взгляд, удивленно воскликнул:
– Нож?! Тебе уже понадобился нож?! Зачем?! Ты ведь настолько слаб, что даже не сможешь удержать его в руках!
Сарматов тихо застонал от боли и своего бессилия.
– Да, я понимаю, что на войне каждый, даже самый слабый, должен иметь оружие, – Мутталиб покачал головой. – Но ты! Твоя жизнь и так висит на конском волоске, ты не должен сейчас думать об оружии. Оружие очень тяжелое, чтобы этот волосок смог бы выдержать еще и его…