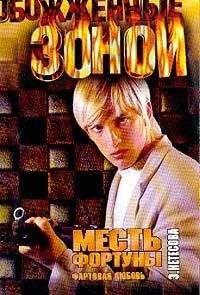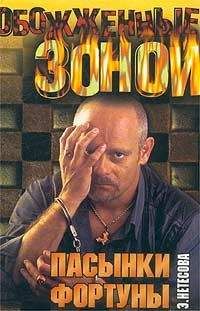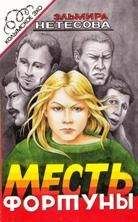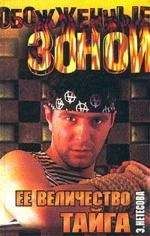— А прокол с ментами? — напомнил Дрезина.
— Не доказано! Если б с мусорами кентовался, законников не подставил бы! Шакал тоже не без гавна в этом деле. Пронюхал, что Лангуст на кабаке не лажанулся — верни навар, какой с него снял. И не возникай с делом в порт, покуда не допер, кто подставил всех в кабаке?
— Шакала в пределе чекисты дыбают! Нашмонают, опять на меня наедете. Другого надо. Не его! — подал голос Лангуст.
— А ты — заткнись! — сорвался Шакал.
— Не цыкай на него! Он пока пахан и в законе! — осадил Шакала Медведь.
— А почему его в тот предел? Шакал подолгу в одном месте— не канает! — подал голос маленький Решка.
— Зато фартовые предела уже секут, кто он? И ссать станут, закон будут держать. И в Черную сову из подземки кентов набрать можно. Там, как вякают, уже созрели кенты. Они к Шакалу не похиляют — покатятся горохом, как ни к кому другому! — улыбался маэстро коварному ходу, понимая, что, поселив в пределе двух врагов, — выигрывает сам. Уж Лангуст никогда не смолчит о наварах Шакала, и тот не сможет зажать долю Медведя.
— Однако не врублюсь я, паханы! На хрен морить в одном пределе Шакала и Лангуста? Кто-то с них ожмурит другого! Это верняк! Да и я не спустил бы на холяву — наколку! Почему Лангуста оставляем дышать, если он — падла, на кентов Шакала не только законных, а и шпану сфаловал? Лажанулся? Мотай на кулак! Но не замахивайся на всю малину! Да еще через Паленого! Сколько кентов ожмурилось! И он отмажется испугом? Дадим другим шару также делать! Через год и вовсе без фартовых останемся! — рассуждал Решка.
— В законе и паханах не дам ему дышать! Это заметано! — грохнул Медведь басом, понемногу трезвея.
— Недобор, маэстро! Только и всего! — удивился Сапер.
— Ты крови хочешь? — прищурился Лангуст
— За подлянки своим корефанам всегда тыквами платились! А ты чем файней тех? — вспылил Дрезина. И добавил:
— И впрямь за мелочи мокрили! Тут же — целая куча грехов!
— Не на мне одном! — ощерился Лангуст.
— С Шакала свой спрос! И он не минет наказания! — пообещал Медведь.
Пахан Черной совы похолодел, почувствовал, как меняется настроение маэстро. И выжидал, решив не вмешиваться в будущее Лангуста. Тот сидел, как на иголках.
— Замокрить надо! — требовал Дрезина.
— С этим мы не проссым! Пусть столько выучит, сколько посеял! Я трехнул — все на том! — заупрямился Медведь и продолжил спокойнее:
— Но из паханов и закона — выбросим! Это верняк! За «зелень» кентелем ответит! За всякого проколовшегося, лажанутого — душу из него выбью сам! — пообещал Медведь. Последнее пришлось по душе всем.
Лангуст, поняв, что его не будут мокрить, перестал потеть и дрожать.
— Вместо Сивуча дышать станешь! Сам «зелень» подберешь, сам лепить кентов из нее будешь! По заказу малин.
Грев тебе и пацанам я сам назначу. Подкидывать его — всякий месяц. Но, коль кенты не фалуются, то и дышать тебе — у Сивуча! Тот вовсе схирел. Заодно, его держи!. Доперло? — повернулся к Лангусту.
Тот поспешно согласился. Закивал головой. И спросил тихо:
— За зеленью мне возникнуть?
— Паханы привезут глянувшихся. А ты линяй в Брянск. Шустро! И секи! Ты нынче уж не законник! Давай сюда клешню! — подвел к табуретке и, вытащив нож из-за пояса, тут же отхватил меченый пахановский палец. Лангуст губу прокусил, чтобы не закричать от боли! Кровь брызнула на пол. Сявки тут же бросились к Лангусту, вывели его в коридор, перевязали руку, успокоили, утешили, мол, слава Богу, самого не ожмурили. Без паханства и закона, а тем более без пальца, дышать можно. Вон они сами! Канают в стремачах! И не тужат.
Лангуст понимал, что от ожмуренья его спасло лишь чудо. Он знал, скольких паханов замокрили сходы по слову Шакала. Помнил и буйный характер Медведя. Потому, уезжая в Минск, не рассчитывал вернуться живым обратно. И не оставил в Калининграде свои деньги. Все взял с собой. На поминки… Но повезло…
— Тебе кайфовать не дам! И не оставлю на холяву потерю
стольких законников! — усмехнулся Медведь, повернувшись к Шакалу, продолжил, криво усмехаясь:
— Возвращаю тебя в предел Лангуста!
Шакал вздрогнул.
— Возьмешь себе в малину всех законников. И тех, какие в тюряге морятся — сними! Но! Врубись, Шакал, ботаю при всех паханах! Если хоть один кент ожмурится по твоей вине, не дышать тебе! Сам замокрю! Клянусь волей! Как свой кентель всякого законника береги! И пусть твои фартовые сумеют с ними сдышаться!
Шакал низко опустил голову. Спорить с маэстро, с паханами он не имел права. Но подарку Медведя — не радовался.
— Ничего, Шакал, выпьют кенты мировую, забудут прошлое! — ткнул в бок острым локтем Решка.
— Кто старое вспомнит, тому глаз вон! — рассмеялся Сапер.,
— Чего тыкву повесил? Эй, Шакал! Да твоя Задрыга их быстро в клешни возьмет. Огонь — не кентуха! — смеялся Дрезина хрипло.
— Шакал! Еще к тебе слово! Следи за Задрыгой! Чтоб закон держала! Файная законница! Трепу нет! И все ж… Дальше флирта — ни шагу! Я хочу ей через год малину дать! Свою! Пусть паханит!
— Не пущу от себя! — взвыл Шакал. Ему стало страшно за Капку.
— Выросла она, теперь уж сама слинять может. Отдельно фартовать! Я даже удивился, что она из подземки не сколотила себе малину. Новую, нахальную, голодную! Таких только в ее клешни отдавать надо! Чтоб сбила из них таких, как сама! — успокаивался Медведь.
Никто из них не знал, как в это время плакала Задрыга…
Она приехала к Сивучу вместе с Королем ранним утром. Стукнула условно, как когда-то, давным-давно. Но к двери никто не подошел, не отворил ее. И Капка постучала громко, требовательно.
В ответ услышала странную возню за дверью.
— Сивуч! — позвала девчонка. В ответ услышала слабый старческий голос:
— Кто?
— Я! Задрыга! Открой!
— Капка! — донесся сорвавшийся на плач голос. И неуверенные шаги затопали к двери. Капка ждала, что он отворит дверь нараспашку и спросит, как когда-то в детстве:
— Где так долго шлялась, лысая гнида? — Но нет. Задрыга услышала, как обшаривают дверь дрожащие руки. Вот они наткнулись на крючок, с трудом справились с ним. Потом засов снимал кряхтя.
— Видно, долго взаперти дышал, колб разучился открывать? — подумала Задрыга и, толкнув дверь плечом, чуть не сбила Сивуча с ног.
Но Сивуч ли это? Капка вглядывалась в него, не веря своим глазам.
Что осталось от него? Жалкий, немощный старик едва держался на ногах. Руки и ноги тряслись.
— Капка, где ты? — потянулся руками к ее лицу. Ощупал голову плечи, руки.
— Здравствуй, Задрыжка! — сказал, закашлявшись. И рукой пригласил в дом.
— Я не одна, Сивуч! — удивилась Капка тому, что старик не спросил о Короле. Кто он и зачем здесь?
— Раз с тобой, значит, так надо! — ответил хозяин, переступив порог. Он подошел к столу, нашарил кресло. Сел в него.
Капка, скинув с себя нарядную дубленку, бросилась бегом в сарай, за дровами. Затопила камин, открыла решетку, чтобы тепло волнами пошло в гостиную.
В доме было холодно, пыльно. Повсюду виднелись следы запустения, одиночества.
Капка быстро посмотрела, что есть у старика из продуктов. Но у Сивуча не нашлось и корки хлеба.
— Что случилось? — ужаснулась Задрыга.
— Это, Капелька, называется — хана! Старость пришла. Скоро мне крышка! Откинусь вот-вот! Не век же свет коптить. Когда-то приходит время смываться к кентам, какие ушли без своей воли из жизни. Теперь и мой черед настал. Вишь, шары уже накрылись! Не видят ни хрена.
— А почему ты один? — распаковывала Задрыга чемодан с подарками и гостинцами.
— Кому теперь сдался? Пока что-то мог — нуждались во мне. Теперь все! Песня спета, легенда сдохла!
Задрыга взглядом указала Королю на рюкзак с харчами. Она помнила по прежним временам, что продукты тут лишними никогда не были. И набрала по пути в магазинах всякой всячины.
Помыв стол, подметя полы, протерев от пыли кресла, Капка велела Королю следить за камином, сама накрывала на стол.
Красная и черная икра, сыр и ветчина, крабы и буженина, осетрина и чавычий балык — не оставили на столе свободного места. Шампанское и коньяк, лимоны и яблоки — стояли впритирку.
— Хавай, Сивуч! — подвинули стол ближе к камину.
— Хлеба дай, Задрыжка! Две недели во рту ни крохи не держал.
У Капки в горле заклинило от услышанного. Она онемело уставилась на старика. Невысказанный, неуместный вопрос застрял:
— Почему? — но она знала ответ на него.
Забыли старика кенты за своими извечными делами, удачами и горестями. Бросили, как лишнего. И он, понимая свою ненужность, не осмеливался напомнить фартовым о себе. Просить он не умел. Стыдился. А старость брала свое нещадно.
У Сивуча всегда болели ноги. С давних пор — с колымской трассы. Пока у старика училась «зелень», в доме всегда был свежий хлеб. Но… Ученики выросли и разошлись по малинам. Новых — кенты не привезли. Так и остался один.