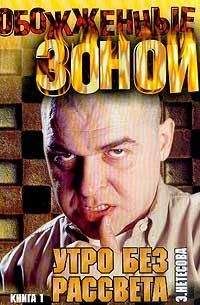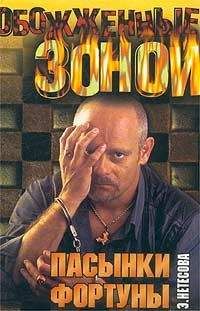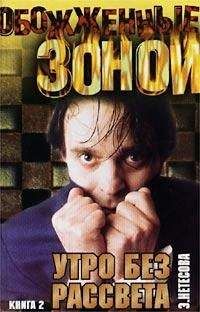— Слушай, а с чего ты убийцей стал? — спросил однажды Николай.
Сеня опешил. Но потом ответил:
— Так пришлось.
— Ну я вот немцев убивал. В войну. Так они — враги. А ты-то за
что?
— Тоже врагов. — Каких?
— Кентов. За что?
— За откол от малины.
— А зачем?
— Чтоб не «стукнули», чтоб выжить.
— И скольких убил?
— Тебе зачем? — огрызнулся Сеня.
— Всяк врагам счет ведет.
— Врагов много. Пришил только двоих. Больше не дали. Засыпали. Хотел и третьего. А он с лягавыми связался. На них работать стал. Да и что с него взять— налетчик! Продажная шкура! Тут и поймали.
— Ну и пускай бы малина с ними разделывалась. Ты зачем в это влез.
— Мне платили. Я и убивал. — А какой срок получил?
— Будь здоров! Да на Чукотке в лагере— за «суку» добавили. Полжизни по лагерям провел. А все из-за говна. Ведь не за здорово живешь. Облажавшихся убивал. Двое убитых, двое нет, вот и все, что есть на счету.
— А кличка у тебя была? — спросил Николай.
— Имелась. Как же без нее?
— И какая?
— Муха. Что? — не поверил Николай.
— Муха, такая кличка моя среди кентов.
— Ну и муха! Ты же погляди на себя! Что общего у тебя? Ты ж целый бык!
— Был бык. Да не стало. Осталась муха, — отозвался Сеня.
— Из-за чего же тебя так обозвали.
— Был случай. Просто так клички не дают, — замолчал поселенец.
— А тебе за что?
— Да-а. Что там особого. Откололся от малины один фартовый. Вор «в законе», медвежатник. По сейфам был большой мастер. Любой умел открыть без следов. Такие в малине — дефицит. Их берегут пуще глазу, ублажают. Все им дозволяется. Ну и этому. Тоже… Он и обзавелся бабой. Она ему мозги свихнула. Мол отойди, завяжи с ними. Он и пошел у юбки на поводу. А знал много. Слишком много. К тому же баба могла его заставить заложить всех нас. Один раз удалось же ей! А мы знали — бабы не умеют остановиться. Всегда мертвой хваткой в мужика вцепятся. Так и эта. Уж выйти замуж, так не за бывшего вора, а за раскаявшегося, за сознательного. Чтоб потом им всю жизнь помыкать. Ну и решила малина убрать его. Совсем. Меня на это дело и послали. Заплатили хорошо. Что ни говори, трудностей немало было. Жил этот медвежатник в общем четырехэтажном доме. А значит, попасть к нему надо было так, чтобы никто не увидел, не заметил и не заподозрил. А значит— глубокой ночью. К тому же и жил этот фрайер на четвертом этаже. В квартире бабы своей.
— Ну, а причем — муха? — перебил матрос.
— Так вот слушай. Вошел. Уже под утро. Глянул. А он один. В постели. Тряхнул. Баба его оказывается на работе была. Ну угрохал. И только в дверь — слышу, кто-то ключ вставляет. Догадался, что баба пришла. И на балкон шмыгнул. Она враз к нему. Я глянул — водосточная труба рядом. Я сиганул. Молодой ведь был. И по ней вниз. А когда баба потом во двор выскочила, все кричала: «Муха! Муху ловите!» Свихнулась, короче. Это когда я метнулся на трубу — она меня за муху приняла. Так и прозвали «Мухой». Навроде этой, что летает. Баба с дури так орала, а меня эдак наградили. За удачу, за невидимость. Умение улететь. Да только вишь как я долетел? До самой Чукотки. Все моей жопе не сидится. Летаю. А где сдохну, не знаю сам. Может тоже, как муха, где-нибудь на помойке или под забором, — опустил голову Сеня.
— Да. Ну и жизнь у тебя! Хуже волчьей. Не позавидуешь.
— Конечно. Но вот так всегда у меня. И в лагере. Никому худого ничего не сделал. А врага нажил — хуже волка. До смерти его буду помнить. Он не только мне, всем гадил. Он волк из волков. А жив. И ни одна чума его не берет. Ничей нож его не достал. Ничьи руки его поганую жизнь не укоротили. Я весь остаток своей жизни отдал бы только за то, чтоб его мертвым увидеть. И не просто мертвым, а убитым. И не хуже, чем я сам его отделал бы!
— Сам думай. Иль лагери не надоели. Сгниешь ни за понюшку. А на черта жил? Ты хоть до свободы доживи! Язва ведь у тебя. Желудочная. Вон как изводит. А ты еще глупости замышляешь. Лечись. И доживи хоть последние годы как человек. Остаток лет не всади в задницу. Или она у тебя вместо головы на плечах растет? Иль в лагере лучше, чем на свободе?
— Не тебе говорить, не мне слушать, — отмахнулся Сенька.
— Так вот и живи спокойно.
— А ты чего жалеешь меня?
— Я? — удивился матрос.
— Ты!
Николай смутился, потом сказал:
— Я на войне полжизни оставил. Жена увидела мою рожу — к другому ушла. Испугалась. Больно страшный я стал. А я и теперь ее люблю. И уехал сюда. Сам. Пусть она будет счастлива с ним.
— С кем?
— С моим другом.
— Ого! — присвистнул Соня. — Да я бы их обоих бы пришил, — сказал он.
— А зачем. Любовь этим не вернешь. Тем более, что теперь у них двое детей. Их сиротами оставлять? Но при чем тут детвора? Пусть живут спокойно. Мне некому мстить. У меня нет врагов. С детьми не враждуют. С бабой тоже. С другом? Но ведь она сама его избрала.
— Так ты женись на другой.
— На ком?
— Какая понравится.
— Эх ты, Сенька! В жизни все сложнее. Баба— не казна. Ее не возьмешь так просто. Какая мне понравится, я ей не по душе. А какой я полюбился — она мне не нужна. Знаешь, есть пословица — рада б за пана, да пан не берет. Так вот оно и всегда.
— А я думал, ты к бабе ездишь, — разочарованно протянул поселенец.
— Не к бабе. К матери. К нашей. Ее сын меня спас, а сам утонул. Я рассказывал тебе. Она в Оссоре живет. В поселке на том берегу. Вот я и езжу к ней. Наведываю. Помогаю. То дров порублю. То зайцев подвезу. Мелочи это все. Но ей от того теплее. И мне отраднее, что она меня всегда ждет. Как своего сына.
— И не упрекнула?
— За что?
— Как? За сына?
— Упрекать не за что. Ему виднее было. Каждый волен распоряжаться жизнью своею. Тем более тогда. Я был без памяти.
— Странный ты, — качнул головой Сеня.
— Почему?
— Зазря живешь.
— Впустую. Не совсем. Я здесь нужен. На острове.
— Но с этим любой мог справиться.
— Справ.иться может и не мудрено. Это верно. Труднее выжить здесь. А я выжил. И никому не стал обузой. Думаешь это легко? Нет! Но я сумел себя заставить жить здесь добровольно! И быть нужным!
— А что ты за это будешь иметь? — не выдержал поселенец.
— Не знаю, — развел руками Николай.
— То-то!
— Но я об этом и не задумывался.
— Не на волков тебе нынче охотиться надо! Не за ними гонять. А жизнь устроить, — задумчиво говорил Сеня.
— Я однолюб, к несчасть ю.
— А значит, дурак.
— Ну ты, полегше! — крикнул матрос. И Сенька замолчал. Меж ними снова легла пропасть. Холодная, бездонная…
— Потому вот видно и тебя мне жаль. Беспутного. Сам коряво живу. А ты и того хуже, — сказал вдруг Николай и замолчал.
…По весне, когда стаял снег, приехали в Ягодное рыбаки. Устроились в домах. Село наполнилось шумом, голосами. Берег ожил. Но к Сеньке никто из них не подходил. Не знакомился. Не заводил разговор. Он тоже ни к кому не набивался. Научил его Николай солить, коптить рыбу и поселенец целыми днями был занят своей работой. От коптилки на шаг не отходил. Нравился ему вид балыков, тешек, что красными гирляндами заполнили всю коптилку. Запах его работы был приятен всем. Песцы, лисы, даже осторожные горностаи, приходили попробовать свои силы и, пытаясь обхитрить поселенца, норовили стянуть недозрелую, нежную тешу или балычину. И Сенька гонял их целыми днями от коптилки, уставал к концу работы до полного изнеможения. Подстегивало еще и то, что за эту работу ему хорошо платили.
Сеня пропадал в коптилке целыми днями. Пропах дымом, рыбой. Редко виделся с Николаем. Да и не до него ему было. С утра получал рыбу. Потом разделывал ее. Солил. Потом готовил тузлук. Обрабатывал коптилку. За неделю, пока рыба солилась, ездил в тундру за дровами, чтоб меньше было забот зимой. Там выбирал березу. От нее у балыков появлялся свой особый вкус и аромат. А тешка при копчении березой — золотом отливала. Радовала глаз. Дразнилась сочностью. В такую впиться — за уши никого не оторвешь. Сеня старался. Развешивал рыбу равномерно. Чтоб каждую дымком охватывало, чтоб тепло подавалось ровно, без перегрева. Чтобы не потрескался, не повял от него ба лык. Коптилку никогда не забывал закрыть. Чтоб мухи в неё не налетели. Не засидели продукцию, не испортили его работу. Все балыки и тешу сдавал только первым сортом. Понемногу коптил рыбу на зиму для себя и для Николая.
Теперь даже кассир стал с ним вежливее. Вручая зарплату Сене, мастером его называл. По плечу похлопывал заискивающе. Все просил у поселенца тешки для жены. И не отворачивал от Мухи морщинистую, лысую мордашку. А улыбался, всеми складками. Для подписи на ведомости свою самописку протягивал. Просил только чтоб не плевал на нее Сеня. Мол, не карандаш. И без того пишет. Но когда поселенец забывался, не ругал его, как прежде. А молча вытирал носовым платком.