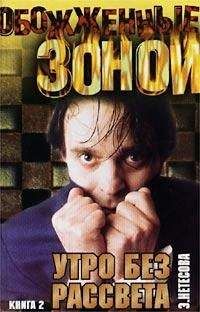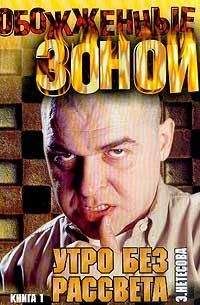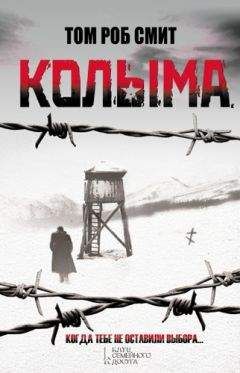— Ну что ж! Ты знаешь, следствие начато. И я, как всегда, буду объективен. Проверю и твою версию.
— Вот этого я не ожидал! Выходит, в открытую дверь с отмычкой… Извини за Гнома. Боялся, что мне ты и рта не дашь открыть. Вот и послал…
— Ну, ладно, пойду я, — Яровой встал.
— Удачи тебе! — протянул руку «президент». И растерялся от собственного жеста. Хотел отдернуть, спрятать руку, ведь не подаст следователь свою… Но Яровой пожал руку «президента».
Тот придержал обрадованно. Глаза — в глаза. «Президент» достал фото, вложил в ладонь следователя.
— Прощай, — выдохнул он и пошел рядом с Яровым. Остановившись у двери, долго смотрел ему вслед.
Яровой не пошел в красный уголок. А сразу в кабинет к майору заглянул. Тот был на месте. А через час Трофимыч из спецотдела принес телефонограмму: сообщили, что человек, интересующий Ярового, нигде в архивах не значится. Обескураженный Яровой выехал на машине майора в Магадан. А утром следующего дня он уже летел все дальше на север.
Певек. После долгой пурги он только сегодня стал принимать самолеты. Под крылом проплывали снега. Белые. Целые горы. А может, это вовсе не горы, а облака легли на землю отдохнуть. Ох, как заждалась, как заскучала эта земля по теплу, по солнцу, по весне. Но когда они придут сюда, такие долгожданные, припоздавшие гости?
Снег то розовел, как вешние сады, то отливал голубизной, словно подогретый талыми водами, то яркой медью загорался, отполированный лучами солнца, то вспыхивал сиреневым восходом.
Вон в белом пушистом распадке речушка звенит, горластым мальчишкой снега будит. А может, это пропеллеры поют так оглашенно? Весну зовут?
А там, чуть дальше, лисьим хвостом проталина снег раздвинула. По ней пара оленей ходит. Мох щиплют. Нюхают первый подарок весны. Какая пахучая, какая маленькая эта проталина! Но земля на ней теплая, добрая. И радуются олени. Влажными глазами высматривают каждую уцелевшую травинку.
Самолет летел дальше и дальше на север. Внизу то ли кустарник из-под снега вылез, то ли олени, подняв ветвистые рога, в гул самолета вслушивались. По снегу бегут дороги, тропинки, следы собачьих упряжек. А вон нарты катятся с горы. Собаки едва заметными точками бегут. Нарты отсюда, сверху, как детская игрушка. Хорошо, наверное, там каюру[13]. Погоняет упряжку. Дорога внизу необычная. Широкая, большая, как небо. Нет там злых семафорных глаз, нет свистков. Нет торопливых пешеходов. Не надо стоять у заправок. Не надо слушаться регулировщиков и знать правила движения.
Задрали хвосты собаки, горячие языки чуть не по снегу волокут. Чешутся потные собачьи бока и спины, а глаза смеются. Скоро весна. Кому, как не собакам, почуять ее первыми. Вон как снег пахнет! И хотя все еще набивается в подушечки пальцев, но уже не колет их. Отпустили морозы. И дыхание не перехватывает. Отпустил и кашель зимний. Теперь на коротких ночевках, привязанные к нартам, собаки уже не грызутся из-за юколы, дружелюбно смотрят друг на друга — скоро свадьбы.
Старенький самолетик веселым кузнечиком будит едва тронутую весной седую тундру. Яровой неотрывно всматривается в нее. Чукотка… как будоражит воображение одно лишь это слово! Романтичной красавицей, седой старухой, краем ночи, древним айсбергом, яркими сполохами представлялась. То казалась безжизненной могилой без гробов и покойников, сплошным воем пурги, заледенелой умершей планетой с застывшим бездушным солнцем над ней. А она вон какая — вышла к реке добродушным медведем испить студеной воды и рычит на зиму. Пора той уступить, ведь уже медвежата подросли в берлоге. Тесно им стало. Скоро на волю. Пора малышей в жизнь выводить. В берлоге им уже не сидится. Покоя взрослым не дают. Но сейчас еще рано. Очень рано. Проталин в снегу мало. А покормиться нечем будет. А голодному легко ли? Еще драться начнут малыши. И раззявил медведь пасть. Ревет на всю округу. Весну кличет.
Скоро полярный круг. Там та же и не та Чукотка. Замерзшей сиротой плачет под снегом. Она первая встречает утро нового дня. Раньше других и засыпает. У нее самый длинный полярный день, когда солнце, дойдя до горизонта, словно порезавшись о его торосистую острую грань и брызнув кровью багровых лучей, снова встает над этой необычной землей, не дав ей увидеть даже сумерек. И так три месяца подряд. Вероятно, в награду за самые долгие на всем свете полярные ночи, когда все девять месяцев подряд вместо светлого неба — лишь мутные сумерки стоят над землей, да и те на три-четыре часа. А потом снова ночь. Темная, холодная, в постоянном вое пурги с редкими затишьями.
Но зато как награждают, как радуют все живое эти затишья, когда обессиленная пурга, вдоволь нагулявшись, уснет в тундре ненадолго, подарив земле морозную тихую ночь. С лупастыми, как желтые цыплята, звездами. Яркими, любопытными, озорными, подмаргивающими каждому сугробу. Как хорошо ехать в такую ночь по тундре на собачьей упряжке. Выбеленная луной она кажется бесконечной сказкой с заячьими криками, с воем волков, с тонким тявканьем лисы, с харканьем оленей. Отчего спины путников то ли от смеха, то ли от страха дрожат. А луна, преследуя, дарит им в попутчики громадные мохнатые тени, от которых каюры чувствуют себя вдвое сильнее и выше ростом. В такую ночь говорить не хочется. Голоса разрушают сказку. Надо ехать молча, как тени. Смотреть и слушать. Говорить в это время имеет право лишь ночь: большая, толстая старуха-кудесница. Она все умеет. Ей все покорно и подвластно. Она не заставит просить себя и ждать. Ох, как неожиданно зажигает она на горизонте свою самую необычную лампаду — северное сияние.
Робкий, первый луч ее вроде из земли возникает маленьким, затерянным костром. Потом он растет, крепнет и вот уже зеленый луч побежал по небу, рассеиваясь в сполохи. Розовые, синие, красные, фиолетовые цвета бегут по горизонту, расплескиваясь, смыкаясь. Загораясь и снова угасая. Кажется, будто там, далеко- далеко впереди, кто-то большой и добрый зажег для путников ночи этот волшебный костер, подбрасывая в него камни- самоцветы, и подарил им на короткий миг незабываемую сказку. Огни эти окрашивают снега в радужные тона, прихорашивают, гладят по головам коротышек-берез. Горбатый ползучий стланик в золотую попону вырядят.
Северное сияние… Короткий миг. Оно— как светлый сон, а живет в памяти до самой кончины.
И если застигнутые в дороге пургою путники окажутся сами по себе вдвое меньше, если пурга кидает людей по снегу, как песчинки, пытаясь заморозить их сердца и души, то выжить им помогает память о северном сиянии, волшебном костре. Выжить, чтобы вновь увидеть это чудо.
Чукотка… Снег белее и пушистее, чем мех у горностая. Опусти в него ладонь. И сразу, как ток по телу, холод поползет. Красив, необычен этот снег. Снежинки — будто лучшими кружевницами сотканы. Сколько их, а все разные, непохожие одна на другую, как судьбы, как люди.
Говорят, что снежинки Чукотки особые. Что это вовсе не снежинки, а песни Каринэ. Девушка жила такая. Давно. Так чукотская сказка говорит. Красивою была Каринэ. Все умела. На собачьих и оленьих упряжках не хуже самых ловких парней ездила Каринэ. Многие ее любили. Но она одного полюбила. Охотником он был. На сивучей [14]. Часто приходила она к морскому берегу, становилась на самую высокую скалу и пела. И сивучи плыли к берегу, чтобы послушать песню девушки и попасть в руки ее парня. Но однажды не сказал ей парень, что идет на охоту. И поднявшийся в море шторм унес парня вместе е лодкой. Видно, рассердилось море, что не слышит песни той девушки. И наказало смельчака. Долго ждала Каринэ любимого. Но он не пришел. Тогда она прибежала к морю. Стала звать парня своего песней. Но море только смеялось в ответ. И выбросило волною к скале копье ее любимого. Поняла Каринэ. Поняла, что забрало его море к себе. Навсегда. Но решила не возвращаться в село. Села на скале и стала ждать парня. Просила море вернуть, отдать ей любимого. Пела ему песни. Так и состарилась на утесе. Умирая, она пела последнюю песню морю. Просила взять его к себе и ее, туда — где умер любимый. А ветер подслушал, разозлился на бездушное море. Стал бушевать. Отнял у него столько воды, сколько песен спела ему Каринэ. Заморозил он эти капли и сделал из них снежинки. Каждая снежинка — песня Каринэ. Потому, говорят чукчи, они такие разные. Холодные— как горе, белые — как седина, слабые — как жизнь, красивые — как ожидание. И до сих пор скала та зовется в народе скалою Каринэ. Скалою верности, надежды и ожидания,
— Сколько еще до Певека?
Пилот улыбнулся, вглядываясь в приборы, потом вниз посмотрел. На землю. На свои, только ему известные ориентиры: