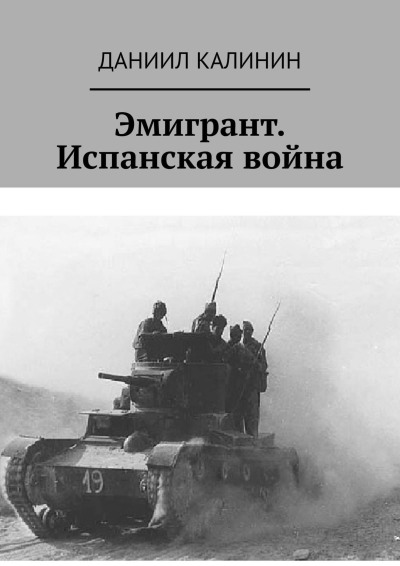доказательство. Однако кто-то из тех, кто не был с нами, уже поверили. И уже многие бойцы начинали спорить и доказывать, «что де видели горцев с факелами», что «им никого не жалко», что «они нелюди». И кто-то разгорался «праведным» гневом к баскам; нас же, кто знал и говорил правду, называли лжецами. Да и наши офицеры «довольно деликатно намекнули», что стоит держать язык за зубами.
Что же, можно и промолчать. Но в душе-то мы знали правду, от которой было не спрятаться. И правда была такова, что я, отправившись воевать за «правое» дело в чужую страну, оказался на стороне тех, кто уничтожает свой народ. Между бойцами распространился слух о том, что бомбардировками также был разрушен город Дуранго, один из религиозных центров севера Испании. Почему-то в этот «слух» я поверил сразу, не задаваясь сомнениями…
…Не было никакой войны за веру, не было «красных» и «белых». Может быть, где-то ещё, но только не на севере. Баски сражались за свою землю, и веры они не предавали: в каждом их батальоне было по капеллану, никаких гонений на христиан здесь не было. Нет.
Они не являлись предателями: горцы были верными сторонниками карлистов лишь потому, что надеялись на обширную автономию или независимость в благодарность за помощь. Но автономию им дала Республика, и теперь они хранили верность уже «красным». Это было их понимание жизни, их главная цель, которую свободолюбивые баски несли сквозь века. И они искренне поддерживали того, кто готов был помочь её достичь.
И потому, несмотря на численное превосходство войск генерала Молы, несмотря на то, что на севере воевали лучшие франкистские части, мы не смогли бы сдвинуть горцев ни на метр, если бы не авиация немцев.
И «белыми» мы уже не были. В России контрреволюция зародилась в ответ на террор, в ответ на приход к власти иноземцев. А здесь франкисты сами привели чужие войска, которые за помощь могли потребовать всё, что угодно. С того момента, как итальянцы и немцы начали уничтожать испанские города, с того момента «белая» идея выродилась. И как доказательство тому в немецких газетах республиканцев стали именовать не «красными» и «белыми», а «испанскими большевиками» и «национальными силами». Как немецких националистов. Здесь не было продолжения русской гражданской войны, нет; в Испании родился прообраз новой, которая грянет в будущем. Сомнений в этом никаких не было: противники назвали себя и пробовали свои силы на «нейтральной» земле.
А где было моё место? Когда-то у меня была «своя правда». Впрочем не своя, а правда «дроздов». Нет, конечно, был сыновий долг, была утраченная Родина, – но здесь я никак не мог её вернуть. И если на Харама всё ещё было определено, даже после гибели отряда, то здесь и сейчас я был просто наёмником, которого гнали в бой. А ведь завтра мне могут приказать открыть огонь по женщинам и детям басков…
Конечно, этот приказ я не выполню. Только в груди разливается какая-то тоска и боль, я будто предчувствую беду. Мне не хочется есть и даже спать, я забываюсь ненадолго и тут же кошмары меня пробуждают… Это предсмертная тоска: все фронтовики верят, что перед «последним» боем они чувствуют свой конец. И уже много раз это подтверждалось. А ведь завтра снова в атаку…
«Только не предавай своей чести и совести, и Господь тебя сохранит…»
А как же, мама, мне не предать её на чужой войне?
Господи, помоги мне…
Глава шестнадцатая. И снова Очандиано
…Пробуждение было тяжёлым. А очнувшись, я понял, что еле могу шевелиться. Вокруг были белые стены и окна, сквозь треснувшие рамы которых гуляли сквозняки. Рядом на койках валялись точно такие же увечные, а в воздухе висел запах карболки, бинтов и крови. Я не сразу смог вспомнить, как в очередной раз попал в госпиталь…
Крайней точкой моего продвижения на севере стал порт Бермео. 1 мая франкисты заняли город, но разъярённые баски страшной контратакой выбили их. Тогда на помощь бросили больше двух десятков батальонов наваррцев, марокканцев и присоединившихся к нам итальянцев. Атаку поддерживали немецкие панцеры. Но с позиций республиканцев мощно ударила неподавленная авиаций артиллерия. Последнее что я слышал – грохот артиллерийского разрыва…
И снова я в госпитале. Опять осколочная рана, и снова мне везёт: конечности остались на месте. Но воспаления я переношу ещё тяжелее, чем в прошлый раз.
Несколько дней кряду меня лихорадит: я мечусь между явью и сном. Очнувшись, истово кричу, прошу пить… Мне бредется лица ближних: размытый образ отца из далёкого детства, лицо молодой матери, во всех подробностях, я вижу каждую её черту. Какая же мама была красивая… Аркадий Юрьевич (Слава Богу, не тот, какого я выкопал) и Александр Иванович, тянувшие ко мне руки. Они что-то говорили мне, звали за собой, смеялись… Я радовался вместе с ними, тоже тянулся к ним, но вдруг в видение оказался Владислав Михайлович. Он резко опрокинул меня на кровать, и развернувшись к офицерам, начал выталкивать их; а они же, уходя, снова тянули ко мне руки…
Я ждал увидеть глаза басконки, но вместо этого видел её отца. Это видение всё возвращалось, я явственно слышал его голос и не мог понять: почему совершенно неблизкий и практически незнакомый человек так часто мне является?
Но видения закончились и я пошёл на поправку. А басконец мне не привиделся – он меня лечил.
… – Ну что, баск, радуешься меня видеть раненым и обездвиженным? Наверное, ликуешь внутри… Что же, твоё право.
Доктор с усмешкой взглянул на меня:
– Если бы я действительно радовался тому, что ты лежишь раненый, то тебя бы давно закопали, ещё неделю назад. Я спас тебя, русо, но теперь мы с тобой в расчёте.
…Вот так вот, я спас девчонку, а она спасла мою жизнь. Её строго отца звали Айнгеру, он был авторитетным хирургом. Именно его золотые руки чистили мои раны и достали все осколки таким образом, что мои ноги остались на месте.
…Дни в госпитале были до скуки однообразны. Я нехотя общался с парой испанцев, но это были не жизнерадостные и дружелюбные наваррцы. Когда они узнавали, что я русский, общение увядало как-то само собой – с русскими в Испании ассоциировалась помощь большевиков. Да я и не жаловался. После всего пережитого уже не хотелось искать общения; сказывалось нелюдимое детство. Я снова писал матери, теперь врал о том, что стал санитаром и служу при госпитале. В остальное время спал, ел… и тихо грустил. Однажды ночью, нахлынула такая волна тоски по матери и никогда не виданному отцу, что слёзы не удалось сдержать. Я тихо выл, зарывшись под одеяло и надеясь, что никто не услышит. Однако с утра во время обхода в глазах Айнгерру я прочитал что-то вроде… сочувствия?
Когда я наконец-то смог ходить, мне удалось осуществить маленькую мечту. В больничном саду росла сирень, в Испании она отцветает рано, однако страна Басков была горным северным (и относительно холодным) регионом. Потому я сумел дождаться момента, когда ещё дивные и благоухающие цветы не осыпались.
Это было настоящее счастье, вдыхать насыщенный, сладкий, даже несколько пряный аромат. Касаясь нежнейших листов сирени, я будто бы чувствовал под ладонями женскую кожу, до того необыкновенно бархатистой была её листва.
Вдоволь надышавшись, я сел на лавочку и с новой волной нежной грусти вспоминал, как молодая мама приносила в нашу каморку эти дивные цветы. Они сразу будто преображали наше скромное жилище, принося с собой атмосферу праздника… Теперь же я не смел сломать и кустика, боясь оттолкнуть детские воспоминания.
И в тот момент, когда я уже готов был подняться наверх, я увидел ЕЁ, выходящую из дверей больницы. Я узнал её со спины, по силуэту, и будто молния пронзила моё сознание.
– Девушка, подождите! Постойте!
Она лишь ускорила шаг.
– Девушка, пожалуйста, помогите!
Последние слова я выкрикнул с отчаянием. Да, настоящим отчаянием, ведь я ужасно испугался потерять человека, единственного, с кем я хотел бы здесь просто поговорить.