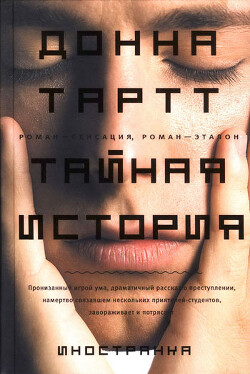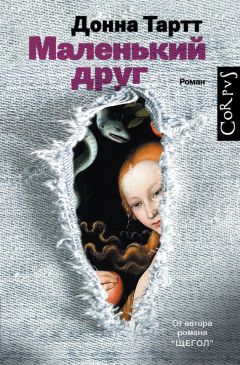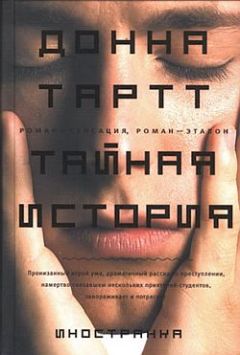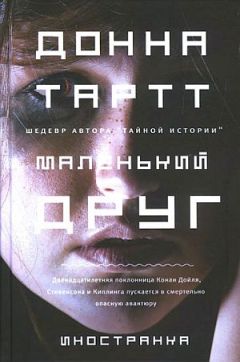Генри посмотрел в окно на низкое серое здание с вывеской «Хэмпденская глазная клиника».
— Бог ты мой, — сказал он, рассмеявшись мимолетным саркастическим смешком. — Поезжай дальше.
В тот вечер я лег рано, около одиннадцати, но в двенадцать меня разбудил громкий, настырный стук в дверь. С минуту я лежал прислушиваясь и в итоге решил пойти посмотреть.
Генри в халате уже стоял в полутемном коридоре. Одной рукой он пытался надеть очки, в другой была керосиновая лампа, от которой по стенам узкой прихожей расползались длинные причудливые тени. Заметив меня, он приложил палец к губам. Лампа давала жутковатый свет, и, пока мы стояли среди мохнатых, подрагивающих теней — не шевелясь, полусонные, в халатах, — меня не покидало чувство, будто, очнувшись от одного сна, я тут же угодил в другой, еще более невероятный, прямиком в какое-то запредельное бомбоубежище бессознательного.
Кажется, мы простояли так очень долго — стук прекратился и вдали стих скрип шагов, а мы все не двигались с места. Генри выразительно посмотрел на меня, и еще какое-то время никто из нас не шевелился. «Ладно, теперь все в порядке», — наконец сказал он и, резко повернувшись, прошагал мимо меня к себе в комнату, окруженный суматошными всполохами света от качающейся лампы. Я постоял еще несколько секунд в темноте и тоже вернулся в постель.
На следующее утро, около десяти, когда я стоял на кухне и гладил рубашку, в дверь снова постучали. В коридоре, как и вчера, я наткнулся на Генри.
— Как ты думаешь, это похоже на Банни? — спросил он вполголоса.
— Нет, не очень.
Стучали легко и негромко, Банни же всегда молотил в дверь так, будто собирался ее высадить.
— Подойди к боковому окну и попробуй посмотреть, кто это.
Я прошел в соседнюю комнату и осторожно нырнул к противоположной стене. В доме не было штор, и поэтому пробраться незамеченным к дальней части окна было очень трудно. К тому же окно выходило на улицу под неудобным углом, и у входа я разглядел лишь рукав черного пальто, над которым развевался кусочек шелкового шарфа. Я прокрался обратно к Генри.
— Было плохо видно, но, скорее всего, это Фрэнсис.
— Ах вот оно что… Ну, можешь впустить его, — сказал Генри и вернулся на свою половину.
Я снова миновал соседнюю комнату и открыл дверь. Фрэнсис стоял, оглянувшись назад и, очевидно, уже собираясь уходить.
— Привет, — сказал я.
Он удивленно повернулся ко мне. С тех пор как мы виделись в последний раз, лицо его еще больше заострилось.
— О, привет! Я уже подумал, что дома никого нет. Как твое самочувствие?
— Прекрасно.
— Что-то ты неважно выглядишь.
— Да ты в общем-то тоже, — рассмеялся я в ответ.
— Я вчера слишком много выпил, и мой желудок этого не одобрил. Хотел взглянуть на твое знаменитое тяжелое ранение в голову. У тебя теперь будет шрам?
Я провел его на кухню и, подвинув гладильную доску, освободил место.
— А где Генри? — спросил он, стягивая перчатки.
— У себя.
Он принялся разматывать шарф.
— Я только поздороваюсь с ним и сразу вернусь, — быстро проговорил он и выскользнул из кухни.
Но возвращаться он не спешил. Мне стало скучно, я снова взялся за утюг и уже почти успел догладить рубашку, как вдруг до меня донесся его голос, взмывший почти до истерического крика. Я перебрался в спальню, чтобы получше расслышать, в чем дело.
— …вообще думаешь? Бог ты мой, да он же совершенно не в себе! Ты и знать не знаешь, что он может…
Последовало негромкое бормотание — голос Генри. Затем вновь Фрэнсис.
— Мне наплевать, — с жаром сказал он. — Господи, но вот теперь ты этого добился. Я всего два часа как в городе, и уже… Мне наплевать, — повторил он в ответ на какую-то неразборчивую реплику Генри. — К тому же для этого все равно поздновато, нет?
Молчание. Потом заговорил Генри, но так, что я не смог разобрать ни слова.
— Тебе это не нравится? Тебе?! — воскликнул Фрэнсис. — А мне, ты думаешь, приятно, что…
Осекшись, он продолжил уже на тон ниже, и я опять ничего не понял. Я тихонько вернулся на кухню и поставил чайник. Минут пять спустя, прервав мои размышления о только что услышанном, показался Фрэнсис. Протиснувшись между доской и стеной, он подхватил со стула перчатки и шарф.
— Жаль, но мне пора бежать. Надо выгрузить вещи из машины и начать уборку. Этот кузен устроил у меня настоящий разгром. По-моему, он ни разу не удосужился вынести мусор за все это время. Дай-ка я взгляну на твою рану.
Я откинул волосы со лба и показал место пореза. Швы уже давно сняли, и почти ничего не было заметно.
Фрэнсис наклонился поближе, разглядывая мой лоб сквозь пенсне.
— Силы небесные, совсем ослеп, ничего не вижу. Когда у нас начинаются занятия — в среду?
— По-моему, в четверг.
— Тогда до четверга, — сказал он и исчез.
Я повесил рубашку на вешалку и, вернувшись в спальню, начал собирать вещи. Монмут открывали сегодня после обеда; может быть, попозже Генри отвезет меня туда вместе с чемоданами.
Я почти закончил сборы, когда Генри позвал меня из своей комнаты:
— Ричард?
— Да?
— Загляни ко мне, пожалуйста, на секунду.
Войдя, я обнаружил, что Генри, закатав рукава рубашки по локоть, сидит на краю откидной кровати с разложенным в изножье пасьянсом. Волосы у него спадали не на ту сторону, и у самых их корней я увидел длинный бугристый шрам, перерезанный белыми рубцами под углом к надбровью.
— Я хотел попросить тебя об одном одолжении.
— Да, конечно.
Он шумно втянул носом воздух и поправил съехавшие очки.
— Не мог бы ты позвонить Банни и спросить, не зайдет ли он ко мне сегодня?
Я был так удивлен, что на секунду замешкался с ответом:
— Само собой. Конечно. С удовольствием.
Он закрыл глаза и потер виски.
— Спасибо.
— Да нет, не за что.
— Если хочешь переправить что-то из своих вещей на кампус, то совершенно свободно можешь воспользоваться моей машиной, — невозмутимо сказал он, разглядывая меня.
Я понял его намек:
— Хорошо.
Я погрузил вещи, отвез их в Монмут, взял у охранника ключи от своей комнаты и только потом, спустя добрых полчаса после нашего разговора, позвонил Банни с таксофона на первом этаже.
Глава 4
Почему-то я был уверен, что, когда приедут близнецы, когда мы все вновь обустроимся, возьмемся за Лидэлла и Скотта и одолеем два-три задания по греческой литературной композиции, наша жизнь вернется в уютную, размеренную колею прошлого семестра и все станет таким же, как раньше. Но я ошибался.
Чарльз и Камилла написали, что их поезд приходит в Хэмпден поздно вечером в воскресенье. В понедельник, когда студенты со своими пожитками — лыжами, магнитофонами, картонными коробками и тому подобным — повалили в Монмут, мной владела смутная надежда, что близнецы заглянут ко мне, но они так и не объявились. Во вторник тоже не поступило никаких известий — ни от них, ни от всех остальных; только Джулиан оставил в моем почтовом ящике коротенькую любезную записку, в которой поздравлял меня с началом семестра и просил перевести к первому занятию одну из од Пиндара.
В среду я пошел к Джулиану, чтобы сдать свои регистрационные карточки. Он как будто был рад меня видеть.
— Похоже, ты вполне поправился, — заметил он. — Не сказать, впрочем, что у тебя цветущий вид. Генри держал меня в курсе твоего выздоровления.
— Правда?
— Наверное, хорошо, что он прилетел раньше намеченного, — продолжал Джулиан, просматривая карточки, — хотя, признаюсь, он удивил меня, нагрянув ко мне прямо из аэропорта — посреди ночи, в страшную метель.
«Очень интересно», — подумал я, а вслух спросил:
— Он остановился тогда у вас?
— Да, но лишь на несколько дней. Ты, наверное, знаешь, что Генри тоже был болен? В Италии, во время поездки.
— А что с ним было?
— По нему этого не скажешь, но на самом деле здоровье у Генри далеко не железное. У него проблемы со зрением и сильнейшие мигрени, иногда ему приходится очень тяжело… В этот раз приступ оказался особенно сильным. По-моему, ему не стоило лететь в таком состоянии, но, с другой стороны, удачно, что он не остался в Риме, иначе он не смог бы помочь тебе. Скажи, как ты очутился в таком ужасном месте? Родители отказали тебе в поддержке? Или ты сам не хотел просить у них деньги?