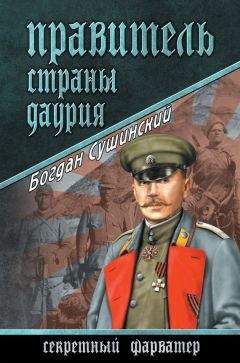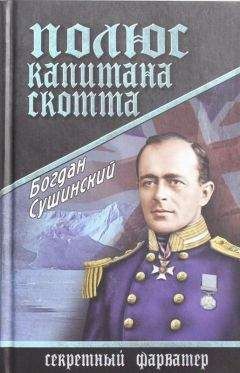– О будущем моей армии? – насторожился генерал. Это ж надо было Куроки умудриться изложить тему их встречи в такой «заушистой» форме! – А что мы можем знать о её будущем, если полмира уже охвачено мировой войной?
– Правильно, половина мира. Поэтому все со страхом думают, что произойдет с этим миром, когда война вдруг… завершится, – уклонился переводчик от каких-либо вопросов, касающихся предстоящей встречи.
– Почему «со страхом»?
– Потому что истинного воина страшит не война, а тот мир, который ему предстоит познать после её завершения. Фюрер Германии тоже говорит: «Радуйтесь войне, ибо мир будет ужасным!». Вы этого не знали? – вдруг на чистом русском, без сюсюканья и перевирания слов, произнес Куроки. Семёнов давно подозревал, что русский язык этот переводчик знает намного лучше, нежели демонстрирует. Однако не подозревал, насколько лучше. – И потом, позволю себе напомнить, господин генерал-атаман, что ветры перемен веют не только над Европой. Они всё чаще достигают окраин Великой Азии.[10]
– Лучше бы не достигали. Особенно ветры с пространства между Берлином и Римом, – ворчливо заметил Семёнов, суеверно открещиваясь от какой бы то ни было связи реформ в своем воинстве с тем, что происходит на германских фронтах. Хотя, если японцы действительно задумали относительно его частей что-то серьезное, то навеяно оно будет как раз-таки вихрями с Запада, – в этом азиат-япошка Куроки, пожалуй, прав.
* * *
Положив трубку, Семёнов еще несколько минут стоял, глядя на неё, словно колдун на волшебную шкатулку в ожидании очередного исчадия своего волшебства. Ему порядком надоела вся эта подколодная дипломатия, в которую вот уже, считай, более двух десятилетий играли с ним поочерёдно китайцы, маньчжуры, монголы, а теперь вот и японцы. Он все труднее понимал действия и расчеты императора и его Генерального штаба.
Атаман был убежден: лучшее время для своего наступления японцы уже упустили. Причём безнадёжно. Вторжение нужно было начинать еще ранней весной сорок второго года, когда немцы стояли в самом центре России, а их будущие победы, даже несмотря на проигранное наступление на Москву, казались неоспоримыми. Для него оставалось загадкой, почему император Хирохито и Гитлер не договорились. Что они не поделили, если амбиции вождя Великогерманского рейха, как и самого императора, дальше Урала не распространялись, в соболях-алмазах?!
А ведь миллионы красноармейцев, томящихся в германском плену, куда охотнее переметнулись бы в русские освободительные формирования, узнав, что из Страны восходящего солнца на большевистскую Россию двинулась еще одна мощная сила. Да и все, кто оставался преданным Белому движению, здесь, на Дальнем Востоке, восприняли бы появление войск атамана Семёнова на левом берегу Амура и на Байкале как естественное продолжение Гражданской войны. Только теперь уже к нему присоединились, наверняка, сотни тысяч крестьян, сытых тем, что ленинские жидо-большевички просто-напросто обманули их, не дав ни земли, ни воли, ни равенства. Ничего, кроме отнимающего братства нескольких сотен коммунистических концлагерей.
«Да, время упущено», – тяжело вздохнул генерал-атаман. – «Войска союзников все ближе подступают к границам рейха. Так на что теперь японцы рассчитывают? На то, что победят, начав войну с Россией в одиночку? Да к тому же, имея у себя в тылу огромный бурлящий Китай, а по бокам – оскорбленную перл-харборским побоищем Америку и десяток других стран, народы которых восстанут против них сразу, как только окончательно поймут, что Германия терпит поражение? И вскоре американцы вместе с англичанами и русскими примутся за Японию?»
Семёнов поднялся к себе в кабинет-музей и снова вышел на балкон.
Ливень наконец-то прекратился. Солнце выползло из предгорий Большого Хингана и теперь растекалось желтизной своих лучей по одному из склонов, словно огромное разбитое яйцо. Где-то там, за хребтом, синела другая река, Аргунь, за которой начиналась его родина. Семёнов готов был форсировать водную стихию хоть сейчас, даже зная, что идет на верную гибель. Ему опостылела бездеятельность, осточертело все это «великое маньчжурское стояние» его войск, осатанела заумная игра японских штабистов в черт знает какую политику.
Иногда атаману хотелось бросить все: резиденцию, войска, квартиру – и уехать в Европу. Он завидовал Краснову, Деникину, Шкуро. Даже Власову – и то временами завидовал, хотя не был уверен, что не пристрелил бы его при первой же личной встрече. Сразу же, без промедления. За то, что когда-то тот был большевистским генералом. И за то, что теперь стал антибольшевистским, но не признававшим при этом за Россией права на царя, не принимавшим толком ни монархических, ни белогвардейских идей.
– Прибыл полковник Родзаевский, – доложил адъютант, неслышно возникая у него за спиной.
– Прибыл наконец-то? Ну, зовите его сюда, этого Нижегородского Фюрера, в соболях-алмазах!
– Прямо сюда, к вам?
– Какое «сюда»?! Нет, конечно! – почти испуганно оглядел Семёнов свой сокровенный «музей». Он чуть не забыл, что не должен впускать сюда никого из посторонних, охраняя его, как некое тайное святилище. Впрочем, таковым этот кабинет и был.
– Что с группой, которую вы послали к Чите? – поинтересовался атаман Семёнов у Родзаевского, прежде чем успел предложить ему кресло. – Помнится, мы возлагали на неё не меньше надежд, чем японцы – на всю Квантунскую армию.
Было что-то демоническое в облике вошедшего тридцатисемилетнего полковника. Худощавое нервное лицо с утонченными, но совершенно не красящими его чертами. Узкие бескровные губы и красные воспаленные глаза. Султан редких седоватых волос, едва прикрывающих два ожоговых шрама на лбу.
– Мои оценки группы намного сдержаннее, – покрылся бледными пятнами Родзаевский, болезненно воспринимавший любые попытки иносказания, малейшее стремление свести разговор к шутке или подковырке. Всего этого он просто-напросто не понимал, да и терпеть не мог. – Хотя, не скрою, группу ротмистра Гранчицкого считаю лучшей из всего, что только можно было составить из нынешних курсантов.
– И что в результате?
Только теперь Нижегородский Фюрер достал из толстого золоченого портсигара гавайскую сигару. Внимательно осмотрел её, словно выискивал признаки, по которым возможно определить, отравлена ли она. Лишь после этого, испросив у генерала разрешения, закурил, с удовольствием и артистично вдыхая в себя горьковато-сладкий дым.
Семёнов знал, что это были особые, немыслимо ароматизированные сигары, которыми в Харбине наслаждался, очевидно, только Родзаевский, так что атаман с трудом, уже в сотый раз воздержался, чтобы не напроситься у того закурить. Сам полковник своих сигар никому и никогда не предлагал. Даже генералу. Для угощений он обычно имел в запасе папиросы, набитые тухловатым маньчжурским табаком.
– Из всей группы вернулся только один человек. Час назад я беседовал с ним. Убедился, что его информация в основном совпадает с данными, полученными от японских агентов.
– Только один – из всей группы?!
– Да, только один, и то по счастливой случайности. Слишком уж трудным оказался этот рейд.
– Дело не в трудностях, – возразил генерал-атаман. – Диверсионные походы в Россию легкими не бывают и быть не могут. Меня не это смущает. Но только что ж это за подготовка такая?! Мы что, готовим своих диверсантов для одного рейда? Целые группы – ради небольшой прогулки, во время которой диверсанты наши не достигают даже Читы?!
Полковник вскинул брови и взглянул на атамана, как на зарвавшегося юнкера, забывшего, что наука, которую ему преподают, соткана из опыта многих воинских поколений и круто замешана на кровавой окопной грязи.
– Следует учесть, господин генерал-лейтенант, что группа свинцово «прошлась» по всему Забайкалью. И при этом вела себя отлично, задание в основном выполнила. Если бы не излишний риск, чему едва ли не каждый день подвергал её командир, таких потерь не было бы.
– Неужели сам ротмистр Гранчицкий так оборзел?!
– Именно. Он, с его маниакальной потребностью красоваться на виду у врага и обязательно под пулями.
– Красоваться, говоришь, в соболях-алмазах? Этого у наших казачков не отнимешь, – проворчал атаман, понимая, что Родзаевский привел такой аргумент, возражать против которого уже нет смысла. – Особенно у бывалых офицеров. Они и в пехоте ведут себя так, словно несутся в сабельном аллюре.
– Но если для лихача-окопника это еще кое-как приемлемо, то для командира диверсионной группы, действующей в тылу врага… Позвольте возмутиться. Причём самое удивительное, что подобное поведение ротмистра оказалось для меня совершенно неожиданным. Потому что лично я знал его как человека, хотя и храброго, тем не менее крайне осторожного и осмотрительного.
Генерал-лейтенант Семёнов поднялся и неспешно, вразвалочку, как-то неуверенно ступая своими тонкими, по-кавалерийски изогнутыми ногами, прошелся по кабинету. Наблюдая за ним, полковник в который раз поймал себя на мысли, что в этом человеке действительно нет ничего генеральского. Казачий батька-атаман – еще куда ни шло, но строевой генерал?!