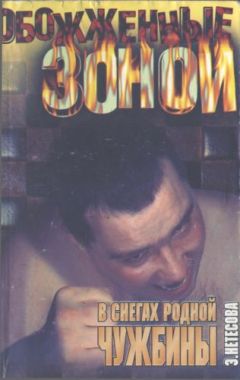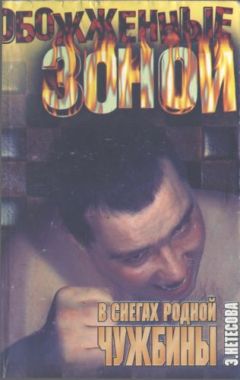Федор свернул на старую улицу: шел от дома к дому, вглядываясь в лица.
Как чисто поет соловей в саду, даже уходить не хочется! Но нельзя ж столбом среди дороги стоять. Он уступил дорогу женщине, — та на коромысле несла воду. Глянула на лесника вопрошающе.
— Где тут Бобровы живут? — спросил ее, когда поравнялись.
— Бобровы? Что-то не припомню таких. Хотя есть! Точно! Серафим Бобров! Вон там, в конце улицы его дом. Пчеловода ведь ищете?
— Да мне все равно, кем работает. Мне Бобровы нужны. Раньше их в этой деревне много было.
— Так это когда же раньше? Кто сам сбежал, кого забрали. Теперь вот последний остался. Единственный из всех. Те — кулачье сплошь. Потому выселили, как класс. Чтоб другим жить не мешали. А вы, никак, их родственник? — спросила, прищурясь, женщина.
— А что, похож?
— Да я их не помню, верней, не знаю. Маленькая совсем была, когда их отсюда выселяли. Но рассказывали о них старики. Мол, крепко жили. Как богатели. Но работали, как звери. Ни выходных, ни праздников не знали.
— А разве это плохо?
— Ну, без роздыху нельзя. А у Бобровых, сказывали люди, средь зимы, бывало, сосульку не выпросишь. У нас в селе как жадюга заведется, так и дразнят Бобром, — покраснела баба от собственной разговорчивости.
Извинившись, она пошла к дому. Федор же двинулся в конец улицы искать пчеловода Серафима, единственного оставшегося в селе Боброва.
Дом оказался на замке. Федор присел на крыльцо, ожидая хозяина. Лишь к полудню у калитки объявился старик и, шаркая ногами, пошел к крыльцу.
Федора он встретил настороженно. Долго расспрашивал, чей он, зачем в селе оказался, почему к Серафиму пришел, кто его дом указал.
Лесника эти вопросы стали злить.
— Я ведь не в иждивенцы набиваюсь. Приехал родню увидеть. Может, кроме вас, уцелел кто-нибудь из Бобровых?
— Нет никого! Разве вот председатель колхоза! Но он тебя не впустит. Не признает. Коммунист! Родни и родства не признает. Идейный! Своих совестится, и ты к нему не суйся! Как племяшу советую. Хоть он тебе родня, сам в том век не сознается, даже в могиле. Он же, гад позорный, когда оженился, фамилию жены своей взял. И вовсе перестал быть Бобровым. А до того тож не сознавался. Говорил, что он однофамилец, змей окаянный! Аж мне за него совестно было. Извели наш корень. А оставшиеся измельчали.
— А где еще Бобровы живут? — спросил Федор, пригорюнясь.
— Может, и есть где, да сюда не суются. Всем жить охота. Поди сознайся, снова за жопу возьмут. Вот и поразъехались по чужбинкам. Чтоб никто не докопался, кто он и откуда.
— Вы тоже один живете? — огляделся Федор.
— Как крест на могиле! Старуха пять зим назад померла. Дочки обе замужем. В Смоленске живут. Я один бедую. Пытался года три назад одну развалюху высватать. Так не согласилась. Совестно ей, видишь ли, партийной отрыжке за кулацкого родственника замуж выходить. Мало было отказать, еще и высрамила, кадушка гнилая, чтоб ее черти на том свете бодали! — затряслись руки старика.
— Выходит, не кончилось лихое время, все еще воюют с нами! А уж сколько лет прошло! Думал, все давно забыто.
— Где уж там! Надысь ко мне пионеры пришли на пасеку! Думал, к делу хотят приноровиться, подмочь мне, старому. Все ж при учителке. Она грамотная. К добру ребят должна поворотить. Ну, иду навстречу. А баба та усадила детей на траву в кружок подле меня и просит: «Расскажите, Серафим, как вы до советской власти кулачествовали, как с людей деревенских кровь пили? Чтоб знали ученики, как нужно им дорожить завоеваниями их отцов и каждым нынешним днем. Пусть они от вас правду узнают. Такое крепче помнится». Назвал я ее дурой набитой, говном и послал в жопу. Сказал еще, что ее место в психушке, а не в школе детве мозги засорять. И велел всем уходить с пасеки, не мешать работать. Дети, конечно, смеялись над учителкой. А та жалобу на меня настрочила. Ну, приехали из органов. Орали здесь. Грозили в каталажку упечь, чтобы зубы повышибать. А меня чего пугать? Жизнь прожита. Сколько уж тут осталось, теперь не страшно. Терять нечего, находить поздно. Так и сказал. Либо забирайте, либо проваливайте! Так там вы хоть похороните меня. Здесь и это сделать будет некому. Так что согласный я, поехали. С великой душой! Они аж обалдели. Назвали малахольным и еще культурным матом, я уж его враз и не запомнил. И ушли. С тех пор пока никто не дергает. Был бы помоложе, ушел в монастырь. А теперь упустил время, совестно свою немощь на чужие плечи сваливать. Не то бы глаза мои б никого не видели, — пожаловался дед. И добавил горько: — Вот и тебе сказываю, племяш, не получилось нынче гостеванье у меня. И чтоб беды какой не стряслось, беги отсюда подальше, где нас никто не знает и не помнит. Да меньше о себе говори. Потому как и в деревнях, в каждой избе стены и крыши уши имеют. Не обессудь. Приютить не смогу. Не хочу видеть, как тебя на моих глазах забирать станут…
Он ничего не предложил Федору, не спросил, как выжил, где устроился, имеет ли семью. Серафим молча указал глазами на дверь, и гость понял. Он так же молча встал, взял чемодан, не сказав ни слова, вышел из избы, не оглянувшись на родственника.
Федор шел по улице, размышляя, куда ему податься. И вдруг в голову ударила шальная мысль. Он вошел в правление колхоза и, подойдя к секретарше, попросился на прием к председателю.
— Пройдите. — Та окинула приезжего беглым взглядом.
Едва Федор вошел в кабинет, навстречу ему встал крепкий, плотный человек:
— Ну, проходи! Здравствуй! Что? Не принял тебя Серафим? Даты присядь. В ногах правды нет! Вон какой ты, Федор Бобров! Живо наше семя! А? Откуда ты, где жил? Кем работал? — засыпал он вопросами.
Лесник диву давался: откуда узнал о нем председатель? Тот понял. И, рассмеявшись, признался:
— У нас свое, колхозное радио, по всем заборам висит. Увидели наши ребятишки приезжего, такое редко случается. Ну и следом за ним. Интересно все узнать. А в каждой избе форточки имеются. Все слышно. Сел воробей на ветку дерева и новости из первых рук. Это тебе не в городе! — рассмеялся председатель простодушно.
Федор рассказал, что живет на Сахалине. Умолчав при том, как туда попал. Сказал: мол, в лесниках теперь. А сейчас в отпуске. На целых полгода приехал.
— Семья есть? Дети?
— Никого. Один я. Вот решил здесь, на родине, жену подыскать. Из своих баб.
— Иль на Сахалине выбора нет? — удивился председатель.
— Отчего ж? Этого добра везде полно! Да хотел из своих мест.
— Ну, с этим, я думаю, проблем у тебя не будет. У нас каждый мужик нарасхват. Хоть девку, хоть бабу вмиг сыщешь. А чем заняться хочешь?
— Я в отпуск приехал. Оглядеться хочу немного. Дух перевести. Три года из тайги не вылезал!
— Неужели полгода отдыхать станешь? Нам одного дня в неделю хватает. А то и этого не имеем. Деревня, сам понимаешь, каждый час забот требует! А кто, как не мужик, Россию кормит? Вот и мозгуй, имеем ли время на отдых?
— Мне бы сначала определиться. Ведь с дороги я. Не евши. Серафим наш не то что накормить, дух перевести не дал, — сорвалась с губ обида.
— Извини. Укор правильный. Тогда давай решим так. Я тебя определю жить к бабе Тане. У меня, пойми верно, семья большая. Мешать тебе будут. Дети! Вокруг визг, писк целыми днями. Да еще теща! Домашняя полиция! Сам ее не выношу. Зачем тебе на душу свое вешать станем? У бабки Тани и тишина и покой. Чистоплотная старушка. Кстати, родственница наша! Жена твоего дядьки. Он умер. Вот она и живет одна. Я к тебе приходить буду. Ну и ты к нам — в гости. А теперь отведут тебя к тетке твоей. Уж она несказанно рада будет. Когда дух переведешь, осмотришься, сам решишь, что дальше делать, тогда и поговорим. Условились?
— Договорились!
— Ну, а я вечерком загляну к вам! — Председатель вызвал секретаршу, велел ей отвести Федора к бабе Тане.
Маленькая, сухонькая, подвязанная по самые брови платком, старушка улыбчиво провела гостя в глубь дома. Поговорив недолго с секретаршей, вскоре вернулась. И предложила:
— Оглядись, где тебе по душе станет. А я на стол накрою покуда.
Федор пошел по дому. Он оказался просторным, теплым и ухоженным. На стенах старые портреты, фотографии. В красном углу иконы. Горела лампадка неярким светом. И леснику показалось, что этот дом ему знаком. И эта русская печь. И широкие половицы пола. И эти стены…
— Пойди поешь, Федор, — услышал он за спиной тихий голос. И послушно последовал за хозяйкой.
— Признал свой дом иль нет? — спросила старушка, смахнув слезу.
У Федора ложка из рук выпала. Кусок поперек горла встал. Тетка постаралась не заметить:
— Да, Федюшка, отсюда вас позабирали всех. С тех пор уже сколько минуло! И дом этот много раз хотели снести, чтоб на его месте другой поставить, кирпичный. Да отстоял председатель. Сберег. Все верил, что найдется, выживет кто-то и станет избе хозяином. Вот ты и приехал. Слава Богу! Додержала я дом. Нынче отойти могу спокойно, — улыбалась старушка светло.