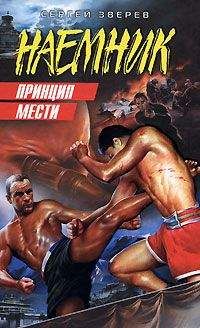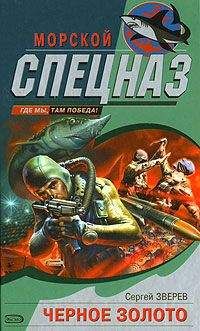Я внимательно оглядел трибуны. Миледи нигде не было, Илии соответственно – тоже. Даша опять отсутствовала – по-видимому, она так и не смогла оправиться от ужаса, вызванного видом крови и страданий людей, выходящих на арену. К этому нельзя было привыкнуть, каждый из нас носил этот ужас в себе, как раковую опухоль. Но особенно труден был отсчет времени для Игнатия; внешне он выглядел спокойным, но от его спокойствия веяло холодом смерти. В своей куртке с эмблемой города Харовска, тельняшке и матросских штанах, удобных для исполнения «Яблочка», он мало напоминал христианского мученика, но я точно знал, что он живет сейчас в первом веке от Рождества Христова, готовясь умереть в бою с именем Сына Человеческого на устах.
– С Богом, – сказал я ему напоследок.
Но Игнатий уже не слышал меня. Он подошел к стенду с оружием, с сосредоточенным видом взвесил в руке трезубец и, как к себе домой, невозмутимо вошел в клетку. Из противоположного коридора ему навстречу царственно выступил лев. Они смотрели друг другу прямо в глаза – зверь, лениво щурясь, человек изучающе. Страха не испытывал ни тот ни другой. Они слишком долго пробыли наедине, чтобы не постичь одну непреложную истину – первый, кто дрогнет, отведет взгляд и смалодушничает, непременно погибнет.
Прошла минута. Колизей хранил молчание. Вторая. Кто-то в верхних рядах уронил бинокль, и он со стуком упал на ступеньки. Никто даже не шелохнулся. И вдруг какая-то неведомая сила сорвала Игнатия с места; по слову пророка Иезекииля, возвысив голос до военного крика, он в яростном порыве бросился на льва.
Лев прыгнул. Все смешалось в беспощадной борьбе человека и зверя, и получился ч е л о в е к о з в е р ь. Игнатий был непреклонен – сердце человеческое отнялось от него, и далось ему сердце звериное, и прошло над ним семь времен, прежде чем его трезубец пронзил грудь льва и рык огнегривого хищника стал слабеть. Спустя мгновение все было кончено. Игнатий лежал на туше умирающего льва, запутавшись пальцами в его лохматой гриве, и медленно истекал кровью, сочившейся из его глубоких ран. Человекозверь вновь разделился надвое, и только кровь, звериная и человечья, по-прежнему сливалась в одно и дымилась, как озеро при свете утренней зари. В какую бы эпоху ни жил Игнатий, вступая в схватку со львом-людоедом, смерть поджидала его не где-то в анналах римской истории, а здесь, в горах Тибета, в третьем тысячелетии нашей эры, и он, еще находясь в сознании, кажется, понимал это. Он не мог посвятить свою смерть утверждению дела Христова, поскольку Гефсиманский сад был так же далек от него, как и Эдем, а Вифлеемская звезда зажглась слишком давно, чтобы согревать его своими лучами. Человек бесконечно одинок на смертном одре, и на камнях, и в пустыне, и самые тяжелые подозрения посещают его в преддверии.
– Ты взвешен на весах и найден легким, – простонал Игнатий и попытался улыбнуться мне, когда я поднял его за плечи, чтобы переложить на носилки. Потом он потерял сознание. В страшной суматохе и неразберихе ему обработали раны, наложили бинты и, наконец, оставили его в покое; мы остались с ним в бунгало наедине, вдали от неистовства колизея и азарта алчной толпы. Что делать дальше, я не знал.
Перед закатом солнца жизнь еще теплилась в нем, хотя надежды было мало. Пришла Даша, села рядом. Она, кажется, предложила мне свою помощь и очень огорчилась, узнав, что помощь ее вряд ли понадобится. Потом какой-то бальзам, восстанавливающий жизненные силы и заживляющий раны, принес Ирокез. Вслед за ним, сразу после его ухода, явился Спокойный; он приготовил отвар, гармонизирующий, по его словам, ки и вырабатывающий кровь, смешав в равном соотношении су джен, гоу бу, дзи ке, чи яо и другие ингредиенты. Рассказав, как им пользоваться, Спокойный на какое-то мгновение задержал свой взгляд на Даше и тоже удалился.
– Тебе надо отдохнуть, – сказала мне она. – Ты неважно выглядишь. Как ты себя чувствуешь?
– Я себя чувствую, но плохо.
– Давай я посижу возле Игнатия, а ты немного поспи. Если ему что-нибудь понадобится, я все сделаю, ты не беспокойся.
Она провела кончиками пальцев по моей щеке, потом нерешительно поцеловала, как бы вопрошая, не слишком ли кощунственно проявлять свои чувства в присутствии умирающего человека, и проговорила:
– Странно, что все мы здесь.
– В этом нет ничего странного, – сказал я, продолжая безотрывно смотреть на Игнатия, лицо которого вот уже четыре часа было неподвижно.
– Почему? Дело случая.
– Мы собрались здесь благодаря твоему отцу.
– У меня нет отца.
– Есть.
Не знаю, зачем я затеял этот разговор именно сейчас и какие последствия он мог иметь для нас всех, но, потеряв всякую осторожность, я выложил ей все, что знал о Богуславском.
– Это он убил твою мать. Она могла опознать его на теплоходе, и тогда весь его грандиозный план накрылся бы.
– Он знал о том, что я его дочь?
– На тот момент вряд ли. О тебе он узнал гораздо позже. Согласись, твоя стремительная карьера в «Пчелке» неслучайна.
– Мне тоже так казалось. Иногда. Слишком уж хорошо все складывалось. Но я верила в удачу, верила в успех... Мною восхищались с детства. Все это, конечно, ерунда. Я чувствовала, что мне кто-то помогает, кто-то меня ведет. Но я не думала...
– Когда-нибудь он придет к тебе и скажет: я твой отец.
– Не знаю, – порывисто вздохнула Даша. – Ничего не знаю.
Разумеется, я ни словом не обмолвился об операции спецслужб, имеющей свой целью передать Богуславского в руки правосудия, потому что выбалтывать чужие тайны не в моих правилах (да и не в моих интересах), и не стал вникать в детали своей биографии – Даша по-прежнему считала, что в Тибет меня привел чисто денежный интерес, желание поправить свое материальное положение. В качестве искателя приключений и любителя легкой наживы я ее вполне устраивал. Хотя кто сказал, что бои без правил – это шальные деньги? Каждый из нас мог потерять все, не приобретя ничего – в жестокой борьбе гладиаторов выигрывали единицы. И то, что я прорвался в одну восьмую финала, было просто счастливым стечением обстоятельств, не имевшим никакого отношения к действительной оценке моих боевых заслуг.
После полуночи в бунгало пришел Илия.
– Ты видел ее? – спросил я.
– Да. Я говорил с ней. Он здесь. Он с самого начала был здесь.
– Это она тебе об этом сказала? – спросил я, стараясь не называть имен, потому что разговор происходил в присутствии Даши.
– Она недвусмысленно дала мне это понять. Не могу объяснить, откуда во мне такая уверенность – никто его не видел, но все, что здесь происходит, происходит с его ведома. Как Игнатий?
– Я не врач. А впрочем...
– Мне нужно идти. Меня ждут в Пьи.
– Нужно – значит, иди.
– Но в такую минуту я не могу оставить вас.
– Игнатию ты уже ничем не сможешь помочь. А дело, ради которого мы проделали такой большой путь, не ждет.
Я сознательно отпускал нашего связного – только он мог известить бирманскую полицию и Интерпол о местонахождении Богуславского. Конечно, у нас оставалась теоретическая возможность воспользоваться спутниковой связью, но, во-первых, у нас ее не было, во-вторых, без проводника добраться до этих мест было весьма проблематично, а брать международного преступника десантированием с воздуха было слишком рискованно – он мог скрыться прежде, чем полицейский вертолет совершит посадку. К тому же не мешало выяснить, где конкретно он находится и кем охраняется. В отеле? В монастыре? Где-либо еще? Вопросов было больше, чем ответов. Во всяком случае, как мне казалось, было гораздо разумнее перекрыть все горные тропы и перевалы, ведущие в этот район Тибета, наладить взаимодействие с китайскими властями и совместными усилиями завершить операцию «Иравади».
– Я еще вернусь, – сказал он. – И мы продолжим с Игнатием наши богословские споры.
Он ушел. Спустя полчаса я отправил в отель и Дашу – не было никакой необходимости в том, чтобы она бодрствовала всю ночь рядом с Игнатием. С этим я мог справиться и сам.
– Приходи лучше утром. Подменишь меня.
Даша подчинилась. Я пожелал ей спокойной ночи, так и не сказав на прощание, какая она замечательная девушка. Не забыть бы сделать это завтра.
А ночью Игнатий заговорил. Я не знал, сколько было времени и как долго длился его бред, но слушал, слушал не переставая, стараясь уловить главное и не пропустить ничего из того, что произносили его наполненные жаром уста. Это была хула на ветхозаветного Бога. Игнатий не мог простить ему злобу его, с какой он вершил свой замысел, и одержимость, и манию величия, и потуги терзаемого комплексом неполноценности тирана. «Сделаю пустынею вечною, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что Я – Господь».
– Ты ждешь от меня рабьей покорности? – метаясь по подушке, хрипел Игнатий. – Но я не раб, Боже, хотя и раб Божий... Женщина... Ты убоялся женщины... Ошибка Адама... Иисус не повторил его ошибку... Илия, где ты? Как смеешь ты называть себя мессией? Но кто не убоялся... Женщина всегда Ева, ты понял это... Христос-девственник в числе первых. Почему? Бог есть любовь. Почему Он не познал любовь к женщине? Кто ты, Господи?.. Чего от меня хочешь? Милосердие, не вера... ветхозаветное пугало... Сплошной поток проклятий и угроз. Боже, ты ли это? Меч наострен и вычещен для заклания... ты будешь пищею огню...Я не был на горе Сеир, это был не я... Ты смотрел на меня. Я видел тебя в зрачках льва... когда сойду в могилу, сделаешь ли сетование обо мне? А-а, преисподняя... А где Илия?.. Опять лев и никого... Где все?