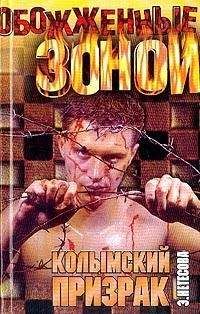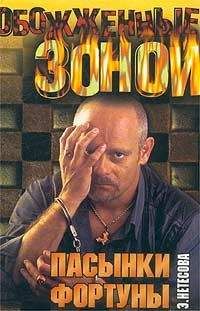Аслана оторвал от лома дикий крик бригадира идейных. Ему киркой раскроили живот.
То ли было бы, не вмешайся работяги. Аслан схватил замахнувшегося ломом фартового. Тот собирался размазать старика профессора, который назвал фартовых амебами. Воры, решив, что старик обматерил их по-научному, вздумали разделаться. Но прихваченный железной рукой Аслана фартовый скрючился от боли, выронил лом.
— Ты что натворил, падла?! — рычал Аслан багровея, тряся вора так, что у него глаза из орбит полезли. — Назад, падлюки! Кто слово вякнет — вот этого слизняка на глазах у вас замокрю! — орал Аслан.
Подоспевшая охрана уложила фартовых на землю по команде и предупредительными, в воздух, выстрелами. Вырвала зачинщиков свары. И всех троих увела на вершину скалы. Там молодые охранники связали фартовых. До прихода дежурной машины запретили к ним подходить.
Когда о случившемся узнал начальник зоны, он объявил фартовым, что все они будут работать целый год без зачетов. А зачинщиков, с дополнительными десятью годами каждому, отправил в Воркуту.
Аслана после случившегося скинули с бригадирства, а на его место назначили сахалинского зэка, отбывавшего в Магадане третью ходку.
Егор. Так того назвали при крещении. Так его звали до десяти лет. Потом жизнь закрутилась колесом. Исковеркав имя на множество кликух. Половину перезабыл. Последняя — Сыч, нравилась больше других. Но должность бригадира и кликуха никак не роднились в его восприятии. И хотя к его кличке зэки давно привыкли, потребовал называть себя по имени. Крещеному, человеческому. Ведь в начальство выбился, как никак, А значит, уважать положено.
Теперь он сидел у костра на самом видном и теплом месте. И после ужина рассказывал зэкам о своих приключениях. А их у него за жизнь набралось столько, сколько наметает пурга сугробов на Колыме зимою. И слушать их любили зэки, охранники и даже собака, охранявшая всех одинаково.
Сыч, получив бригадирство над фартовыми, теперь и с охраной держался увереннее. Но та всегда была начеку. Для нее зэк оставался зэком, какую бы работу он ни выполнял.
Аслан остался бригадиром у работяг и был очень доволен этим. Со своими — полусотней, попробуй управиться, уложиться в норму! Ведь если бригада не даст выработку, то Аслан не получит в конце месяца десять дней бригадирского зачета. А их за год вон сколько набегает!
А сколько времени и сил отнимала эта работа, знали лишь бригадиры!
Вот и сегодня рубит породу Сенька, в зоне его Бугаем прозвали. Рыжий громадный парень. Таких на старых картинках богатырями рисовали. Лом в его руках то кабардинскую кафу, то барыню, то гопак выбивает. Силища у него одного — за десять медведей. В зону загремел за чудное. По пьяной лавке на памятник помочился средь бела дня. Ночью оно, может, и не увидели бы. Или штрафом наказали б. Тут же пятнадцать лет и без разговора в Магадан.
Говорит, что теперь всю жизнь брюки без гульфиков носить будет. Чтоб, коли приспичит, у памятника, присев, незамеченным остаться. Так и считает, что гульфик в его беде виноват.
С Асланом он уже третий год в одном бараке, в одной бригаде. Ему ни разу никто не помогал дотягивать норму. Он слабаков на буксир брал. Никого в зоне словом не обидел. Но ни реабилитации, ни амнистия не коснулись его. Ни один самородок не подкинула Сеньке под руки иль ноги Колыма.
Такому на воле избы строить бы, с косой — в ржаное поле иль на луг. А он за проволокой, под охраной. Обидно. Невеста уже не дождалась, замуж вышла. Погоревал парняга, да недолго. Невеста будет, лишь бы голову отсюда унести на плечах. Да душу не потерять.
«Вот бы его судьба пожалела! За что мается человек?» — жалел его Аслан молча.
Сенька крошил скалу размеренно. Словно ножом отрезал глыбу за глыбой. Даже охрана любовалась его работой, никогда не кричала, не подгоняла его. Фартовые и те обходили Бугая стороной. Но судьба и его не обошла Колымой.
Зэки… Среди них были всякие. Роднила их всех одна трасса, одна нелегкая судьба.
Аслан в этом году и не заметил, как пришло лето. Здесь, в горах, всегда было холодно и ветрено. О летнем тепле скалы, горы знали по пенью птиц, по расцветшей зелени в ущельях и распадках. Но зэки, не ощущая тепла, не верили в лето. Внизу, на болоте, о нем хоть ягода напоминала.
Здесь, на перевале, прокладывать трассу было много сложнее. Объезды, подъезды вплотную к скалам, на случай встречного транспорта, широкие обгонные площадки. Трасса строилась по карте-миллиметровке, на которой были указаны все параметры.
Срезались выступы для лучшего обзора в пургу. Ставились дорожные указатели основательно, надолго.
Трасса сползала вниз, сметая со своего пути все, что ей мешало.
Люди, встав спозаранок, будили горы звоном ломов, кирок, лопат.
Трасса снизу снова карабкалась вверх, очертя голову летела в ущелья, замирала в распадках.
Люди, оглядываясь назад, на проложенную дорогу, довольно улыбались. Красавица трасса, жестокая ведьма, ледяная, бездушная, ее не согреют и миллионы человечьих рук. Но и такая, она переживет всех, кто дал ей жизнь, может, потому, что нет у нее сердца, нет памяти.
Перевал бунтовал. Он не хотел трассу. И ночами, и в ненастье засыпал все камнепадом, оползнями. Но люди снова расчищали, укрепляли дорогу и она, распрямившись, снова дышала, жила.
Аслан работал, не оглядываясь. Что позади? Ошибки да трасса. А впереди — сплошная неизвестность.
Каждый день, прожитый на трассе, был похож на вчерашний и завтрашний, как две капли дождя. Лишь редкие события изменяли привычный ход жизни.
Вот и сегодня, как приправу к ужину, привезли на трассу почту. Раздали ее зэкам.
Аслан получил письмо от бабки, в котором говорилось о всех новостях в селе. И когда он взялся перечитать его вторично, услышал рядом внезапное:
— Ну, блядь!
Русоволосый костистый мужик, читая письмо, полученное из дома, матерился на чем свет стоит.
— Ты что базлаешь? — хотел прервать его Аслан.
— Что, что? Да вот тут, почти о земляке твоем мне написали. Тоже с Кавказа! Чтоб ему весь век говно жрать!
— Кавказ большой! И люди там всякие. Как и везде, город не без собаки.
— Собака против него — человек, — обозлился мужик. И, скрипнув зубами, продолжил: — Эта тварь с мертвой матери снимет кофту и пропьет ее, не подавившись.
— Ты что? — вскинулся Аслан удивленно, и спросил: — Да кто же он такой?
— Жорка есть такой. Ему за гнилое горло в родных местах места не нашлось. Выкинули пьянчугу даже из деревни. Он, паскуда, чтоб ему внуки в глаза плевали, в Тбилиси подался. Его оттуда за махинаторство вышибли в двадцать четыре, как проститутку. Он всегда брался за то, чего не умел делать. И всегда обсирался. На что невзыскательны азербайджанцы, а и те его из Баку поперли. На всем Кавказе, вместе с селениями, если пустить Жорку по домам, ему взаймы не дадут. Как милостыню никто копейку не бросит. Не то что люди, паршивые псы бродячие гнали его от домов, даже с улиц. Духу не терпели. Одним словом не обзовешь. Пьянчугой он родился. Криклив, как самая паскудная баба. Вороватый. Бездельный неумеха. Грязнее его никого в свете нет. Против него загулявшая в марте кошка — сама чистота, вонючий поносный зад — душистый цветок, блошистый, плешивый кобель — личность.
— Да что ж он тебе утворил? — опешил Аслан.
— Одним словом не расскажешь. Я, понимаешь ты, приехал отдыхать на Черное море и там, в Батуми, познакомился с этой плесенью, чтоб он задохнулся собственными соплями, — задыхался рассказчик гневом. — Чудесный город, изумительные люди. Я будто на другую планету попал, хожу, радуюсь от тепла, дружелюбия, изобилия. А судьба, словно подслушав, наказать решила, чтоб уши не развешивал. И в одном кафе свела с этой гнидой, — перевел дух мужик. — Стою я у стойки, мандариновый сок пью. Крепкого мне нельзя было. Ведь на отдых я на своей машине прикатил, на «Победе». И тут-то ко мне и подошел этот козел. Морда — как сморчок. Знаешь, гриб есть такой, коричневый, как кусок дерьма, и весь в морщинах. Прибавь к тому, что в его зловонной пасти все зубы гнилые — одни пеньки. Сам — шибздик, как обезьяна в штанах. Век такой срамотищи не видал.
— Так что сделал он? — терял терпение Аслан.
— Я из-за него сюда попал. Понял?
— Как? Подельником стал?
— Кой подельник? Я не виноват совсем, а парюсь. Он же на воле, других дураков околпачивает.
— Не понял, — сознался Аслан.
— Тогда слушай. Этот мудак, будь он проклят, приметил, что я приезжий и решил меня вытряхнуть. Давай, говорит, мил человек, машину твою в порядок приведем. Глянь, какая она пыльная. Видать, с самой Москвы ее не мыл. Я и развесил уши, обрадовался, что радеет обо мне человек. Подогнал машину к реке, куда Жорка этот указал. И вместе мы отдраили до блеска мою машину и вернулись в кафе. Угостил я своего помощника, поднес ему рюмку коньяку, а он и распустил крылья. Пригласил к своим друзьям. Пообещав мой отпуск превратить в сказку. Золотые горы насулил. Я и поверил. Поехали. В одну дверь толкнулись — закрыто. В другом доме хозяйка, увидев моего спутника, с веником на него налетела. Но говорили они по-своему, я ничего не понял. Поехали к морвокзалу, где мужики кофе на улице пьют. Увидели там Жорку двое мужиков, за грудки схватили. Решили вытрясти то, чего у него не было. Мне б, дураку, уехать бы. Так не допер. Три дня он, как пиявка, сосал из меня деньги. А на четвертый попросил меня дать ему поуправлять машиной. Мол, и выпить я смогу. Всю дорогу держался, в рот капли не брал. А тут соблазнился. Выпил. И заснул на заднем сиденье. Проснулся уже в каталажке. Жорка этот двух человек задавил. И смылся. А я — сюда. На суде, сволочь, сказал, что это я людей сшиб-переехал. Правда, адвокат спросил его, почему ключи от моей машины у него в кармане оказались? Так он, свинья, сказал, что это я их ему подкинул, чтоб его в дело втянуть.