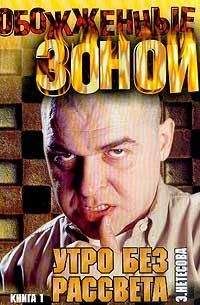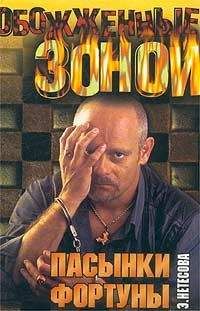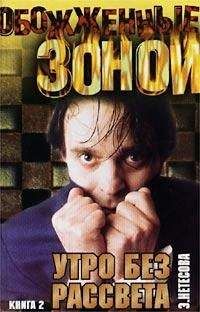Старуха еще не пришла в себя. А когда открыла глаза и увидела Гирю в наручниках, не закричала. Заплакала. Сказала ему:
— Сын у меня — геолог. Он мне на жизнь высылает. Сказал бы ты! Я б сама с тобой поделилась. За что ж убить хотел? Внуков кто ж стал бы растить? Эх, ну что я плохого тебе сделала?
— А за что у моего деда деньги украли?
— Не я! Те — с кем ты был! У них спроси. У своих друзей.
— Пошел! — подтолкнул Семена милиционер.
Потом был суд. Гиря искал в зале кентов. Они ведь обещали выручить, если что случится. И он верил. Ждал. Ждал. Верил. Но в зале суда они не появились. А он все ждал. Как чуда. Ждал и тогда, когда поезд миновал Урал. Ждал — когда в порту Ванино по трапу вошел на пароход. Перестал ждать лишь на Чукотке. Понял. Все понял. Но слишком поздно.
Кенты в лагере смеялись над ним. Еще бы! Вор! А в лагерь с пустыми руками прибыл. Ничего не провез с собою, чтоб хоть на первых порах продержаться, положенный «налог» «президенту» и «бугру» уплатить. Себе на жратву ничего не было.
Первые дни в лагере — чуть не сдох от голода. Кенты поддерживали иногда. Кто пайкой, кто чифирем, кто сухарем поделится. Конечно, не за здоров живешь. Платить надо было. За одну пайку
— потом две отдать. А где их взять? Если своей не хватало. Стал сам прижимать. Своих же. Зэков. Тех, кто послабее. И снова… Отнимал, отбирал. С долгами рассчитался. Да и сам стал сытнее жить. Вольготнее. По три пайки в день съедал. Все молчали. Боялись его кулаков. Расправы. Но судьба и здесь поставила подножку. И посмеялась зло.
Приметил Семен Скальпа. Тот уже с «мушкой» ходил. Ну и взыграло. Решил его пайку к своим прибавить. Тряхнул раз, второй. Он отдавал трудно. Сопротивлялся. Гиря из него душу выколачивал с пайкой. Целый месяц. Каждый день силой отбирал. И надоело. Плюнул Семен на Скальпа, решил обходиться тем, что имел. И забыл о нем. Но Скальп все помнил. И вот однажды, на последнем году пребывания в лагере, кто-то из кентов на воле вспомнил про Гирю, посылку прислал. В ней все, что хочешь. К этому времени у Семы уже совсем желудок сдал. И, заполучив посылку, решил спрятать, скрыть ее от кентов, чтобы не делиться. Самому все съесть. Ведь ему тоже не все и не всегда из посылок давали. А если и давали, так только объедки, что не по зубам было или завалялось. Потому свою посылку он хотел сберечь себе. Целый месяц есть и не показывать вида. Не сознаваться.
Но Скальп пронюхал. И вечером, вернувшись с работы, увидел Сема свою посылку на нарах «бугра». Все было съедено. Все дочиста. Рядом с разъяренным бугром нахальная морда Скальпа ухмылялась. В глазах у Гири потемнело. Он кинулся на Скальпа, хотел горло ему перегрызть. Но куда там? Весь барак за Скальпа вступился. Накинулся на Гирю. Кенты знали куда бить. Кулаки, ноги их — в желудок больной влипали. Били до искр, до жуткой боли, до потемнения в глазах. До тошноты. До крови, которой стало рвать Гирю, но и тогда кенты не остановились. Куда там? Ведь он «закон» нарушил. «Закон»! По которому он должен был принести посылку бугру и тот бы сам поделил. По своему усмотрению. Что-то бы и Гире осталось. Не без того. Что осталось бы — неважно. Это забота и дело бугра.
Но Гиря нарушил этот закон. И Скальп об этом донес. Он тоже бил. Ногами. Орал. Плевал в лицо ему — Гире. Семен вздрагивает. Три ночи он лежал без сознания. Три ночи желудок не давал опомниться и встать на ноги. Не помнит, как он оказался в больнице. Кто его сюда принес. Желудочное кровоизлияние не скоро удалось остановить. Лишь через два месяца встал на ноги. Встал, но Скальпа в лагере взяли под защиту кенты, а Сему судили. По доносу и свидетельским показаниям все того же Скальпа. И, добавив срок, отправили на Камчатку!
— Эх-эх, ну попадись же ты мне! Я всю твою требуху на нитку вымотаю. И глаза выжгу. Гвоздями раскаленными вытеку! За все! За плевки, за стукачество, за то, что чуть не сдох. За то, что всех кентов натравил. За то, что ты, падла, на жизнь мою руку протянул! Я тебя все вспомню, и за эти десять лет! За каждый день, за час! За муки! За боль свою. За отнятые годы — жизнь поганую твою своими руками у тебя вырву из глотки!
Он долго сидел в ту ночь у стола. Отдохнувшие плечи его снова тяжесть придавила. Тяжесть прошлого, тяжесть воспоминаний. Он долго не мог уснуть. А только сон коснулся его глаз, кто-то за плечо тронул:
— Вставай, сынок!
Гиря со сна не понял. Кто его зовет? Кто? Кому это он сынок? Где он? И, вскочив с койки, смотрел ошалело на старушку, стоявшую перед ним. И с трудом все вспомнил.
— Поешь, сынок, — вышла старушка на кухню. И добавила: —На работу тебя пришла разбудить. Вставай.
— А сколько время теперь? — продирал глаза Гиря.
— Семь часов.
Семен подскочил к умывальнику. Плеснул в лицо воды. И только хотел рубаху натянуть, старушка подошла. Остановила.
— Чистое надень. На вот. Подойти должно.
— Чье это?
— Сына моего. Он последним погиб. В войну. Берегла, как память. А она только болит от того сильнее. Носи ты. Пусть тебе на здоровье будет. Носи, у меня все дети хорошие были. Все трое, — отвернулась старушка.
— А что? Все погибли?
— Все. Все война проклятая. Ни одного не оставила. Младшенький мой, такой же, как ты был. Высокий, сильный. Но и он погиб. В Берлине. Неделю до победы не дожил.
— Так у вас никого нет?
— Нет, сынок. Одна я. На всем свете одна. Никого. Была матерью, а бабкой не стала. Мужик-то мой тоже на войне погиб. На первом же году. Война меня сиротой сделала. Война, сынок…
Тихо вздрагивали плечи у старушки. Она доставала из сумки свитер, брюки, носки, рубашки. Все чистое, выглаженное.
— Носи, сынок. Ты ведь тут у нас тоже навроде сироты. Нехай матери твоей теплее будет от того, что я здесь при тебе буду.
— Нет матери у меня, — опустил голову Семен.
Старушка подошла ближе.
— И шарф возьми, — подала Гире сыновнюю память.
— Ваш сын на войне погиб, а я, сами знаете, — замялся Семен.
— И верно. Не сравниваю. Да только сын мой, младший, тоже свет селу давал. После него, как ушел — некому стало. Свечками обходились. А ты пришел и работу моего сына делаешь. Движок-то, как и при нем, поет. Тем же голосом. Навроде, мальчик мой с войны вернулся. Живой. И снова людям светит сердцем своим.
— Может еще вернется, — допивая чай, сказал Гиря.
— Как?
— Может в плен попал?
— Нет. С ним один был. Из совхоза. Своими руками хоронил. Все рассказал.
— Жаль парня.
— Оттуда не вертаются, — вздохнула старушка.
— А как мне вас звать? — глянул на нее Гиря.
— Как хочешь. Теткой Таней, либо бабкой Таней. Так меня все в селе зовут. И ты зови. Как тебе глянется. Иди, сынок. Я в обед приду. Принесу поесть. А покуда в доме приберу, — проводила она его за порог.
Часам к десяти пришел к Семену в дизельную Панкратов. С собой парнишку привел. Черного, как галчонка.
— Принимай в ученики, — сказал он хмуро.
— Сколько ж ему лет?
— Пятнадцать — ответил подросток.
— Не рановато ли? — удивился Сема.
— Сам знаю! Да спасения от него не стало. Школу бросил. Работать нигде не хочет. Дома от него тоже толку нет. Шпана растет. А зачем нам такие? Последний шанс ему даем. Не получится — пусть сам на себя пеняет, — побагровел Василий Иванович.
— А отец есть? — спросил Гиря.
— Погиб. Потому и возимся. Будь жив, таким бы не был, — морщился Панкратов то ли от досады, то ли от собственной боли,
— Хорошо. Пусть учится, — улыбнулся Семен парнишке и Панкратов, уходя, сказал ему:
— Сбереги нам парня. От своих ошибок сбереги, грешно к тебе сына фронтовика отдавать. Но ведь что-то человеческое в тебе осталось. Как мужик от горя удержи его. Сам битый. Дите разуму научи.
— Не беспокойтесь. Я понял, — кивнул ему Сема и Панкратов, скрипя протезами на все село, вышел из дизельной, понурив голову.
Андрейка, так звали парнишку, оказался сообразительным, подвижным мальчуганом. Он с неделю не отходил от движка. Изучил с помощью Семена каждый узел. Все вероятные и невероятные поломки и неисправности. Узнал, как ремонтировать, где смазывать, как ухаживать и заправлять двигатель. И скоро стал незаменимым помощником Семену.
Любопытный Андрейка минуты не сидел спокойно. Все носился вокруг двигателя. Присматривался. Обнюхивал его со всех сторон. А через месяц Семен уже спокойно оставлял его одного в дизельной и уходил домой на час, на два.
Вернее, не домой, к бабке Тане. Не спрашивая ее можно ли, он наготовил ей на зиму дрова. И, урывая по два-три часа подмены в дизельной, все перепилил, порубил. Сложил в сарае. Потом и крышу дома покрыл новым железом. Покрасил, чтоб не ржавела. Этим нехитрым занятиям у деда научился. В деревне. Потом, когда время пришло, сам вскопал огород. Вместе со старушкой посадил картошку, капусту. Бабка за это время привыкла к Семену. И, забыв, что он поселенец, приезжий, часто оставляла его дома, когда ей нужно было съездить в район.