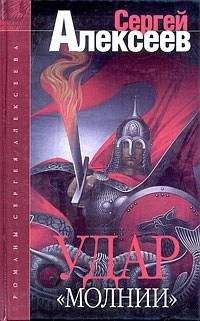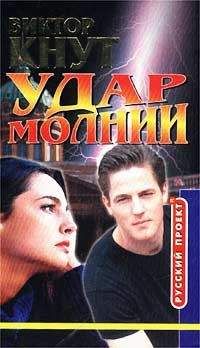И назвал время, что означало, что нужно ехать на Чкаловский аэродром. Глядя на эту поспешность, на то, как без промедления подают самолеты и вертолеты, на то, как суетятся вокруг неизвестные офицеры, до полковника включительно, таскают ящики с продуктами, бензиновые печи, узлы разобранной электростанции, войлок, раскладушки, спальные мешки и на любое замечание деда Мазая козыряют и говорят «Есть!», — глядя на этот беспрекословный порядок, можно было вообще ничего не спрашивать. Дед оказался прав: властям срочно потребовалась «Молния».
После партизанщины Глеб незаметно проник к себе домой — так, чтобы не видели ни кархановские филеры, ни «игрушки», — и больше никуда не выходил. По нескольку раз в день к двери подходили какие-то люди, звонили, ждали, тихо переговаривались и исчезали, часто наведывались «кукла Барби» или «мягкая игрушка», а то обе вместе, но тоже уходили ни с чем. Дважды был участковый и один раз начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Иванов, однако Глеб и его не впустил. Такой образ жизни утомлял его: передвигаться приходилось на цыпочках, чтобы не услышали внизу, вечерами не включать свет — увидят с улицы, никому не звонить — телефон мог прослушиваться, и самому снимать трубку лишь в том случае, когда на аппарате с определителем номера засветится номер деда Мазая либо кого-то из «зайцев». Осатанев от дивана, книг и телевизора, он уже жалел, что не прорубил дыру в полу и не установил лестницу на первый этаж. В вязкой тишине, полном одиночестве и покое Марита не только снилась, но уже начинала грезиться наяву. Среди ночи, отвязавшись от видений во сне, он пошел на кухню и увидел Мариту возле плиты: она кипятила на спиртовых таблетках воду в детской кастрюльке с ручкой, стояла к нему спиной в коричневом школьном платье с кружевным белым воротничком, волосы собраны в пучок, острые локотки, — все естественно, даже шевеление голубого огня и потрескивание таблеток…
Через мгновение все исчезло. Он включил на кухне свет, пощупал конфорку плиты, где только что горел огонь, — холодная. Разве что показалось, будто в воздухе еще есть запах сгоревшего спирта.
Он понимал, что такие галлюцинации ни к чему хорошему не приведут. А чтобы избавиться от всего этого, надо снова уходить в запой или прорубать лаз в полу к «мягкой игрушке». Возможно, и лечиться — идти на поклон к руководству ФСК и просить путевку в специальный реабилитационный санаторий, где такие вещи снимают за две-три недели…
Правда, потом Глеб стал себя убеждать, что это не призрак Мариты, а как бы продолжение сна. Дело в том, что подобная картина происходила в реальности там, в Бендерах. В тот же день, когда выбрался из теплотрассы, он поздно вечером вернулся назад и в одиночку, с помощью длинной трубы, своротил с люка железобетонный блок — крышки заваривать было нечем, и их просто придавили блоками. Он вытащил Мариту и увел ее в брошенный жильцами дом за школой. Все квартиры давно были вскрыты, по нескольку раз ограблены, замусорены и загажены. Он отыскал одну получше, где еще оставался диван, кое-какая посуда на кухне, принес и нагрел воды, и пока Марита мылась, подыскал ей одежду в разоренных квартирах: школьную форму, старые босоножки и даже приличную дамскую сумочку для антуража. Потом кормил ее, поил горячим вином и давал аспирин, чтобы сбить температуру. И все равно всю ночь ее колотило, бросало то в жар, то в холод, приходилось заваливать ее двумя детскими матрацами — короткими, прописанными — или раскрывать и протирать холодной водой. Она нюхала эти матрацы и блаженно говорила:
— Детками пахнет!.. Я так люблю детей. У меня много-много будет детей, только одни девочки…
Он слушал это со смутными чувствами, в полудреме, и будто бы уже видел детей — много девочек, похожих на Мариту. Под утро ей стало легче, и Глеб уснул сидя, прислонившись к спинке дивана. Когда проснулся, увидел Мариту на кухне: она стояла точно так, как привиделась сейчас, и не слышала, как Головеров подошел к двери. Она кипятила воду, чтобы заварить чай…
Надо было избавляться от видений, переключаться, загружать разум какой-то весомой, значительной информацией, искать заделье, работу, увлечения, сильные переживания. Как только опустошались душа и ум, так сразу же их заполняла собой Марита. Сначала он нашел на книжной полке самоучитель голландского языка, которого не знал, однако через полчаса ему стало неинтересно: язык напоминал немецкий и легко заучивался. Тогда он спохватился — вдруг озарило! — почитать Евангелие. Глеб отыскал его не сразу — после генеральной уборки, явившей на свет давно утерянные вещи, стало невозможно найти то, что было под руками и на своих местах. К утру он одолел половину книги «От Матфея» и с рассветом, с великой осторожностью выбравшись из дома, поехал в церковь, которая называлась притягательным, удивительным именем — «Утоли моя печали». Как несведущий в духовных делах человек, он воспринимал все буквально, и казалось, что этот храм существует лишь для того, чтобы утолять печаль страждущих. Глеб дождался, когда откроется небольшая красивая церковка, потом дождался, когда придет священник, когда он облачится и выйдет из алтаря. И тут оказалось, что в храме сегодня нет исповеди, а будет только послезавтра и что перед исповедью нужно день поститься и читать молитвы. Головеров попытался объяснить, что ждать столько он не может, что печаль его слишком велика, велики грехи, от которых уже и заснуть не может, и что ему сложно выходить и входить в свой дом. Священник был ласков, все понимал, но помочь в сию минуту не мог. В храме тоже были свои законы и правила. Напоследок он сделал замечание Глебу, что входить в церковь с оружием нельзя. У священника оказался наметанный глаз — заметить тяжесть пистолета в нагрудном внутреннем кармане куртки было не так легко. И отбил тем самым всякую охоту к исповеди…
Звонок Тучкова стал благом и горем одновременно: хорошо было вырваться из заточения. Но вся эта суета вокруг опального генерала говорила лишь об одном — в России назревала какая-то «горячая точка», а попросту война.
Глеб послушал Князя про самолеты и мосты, собрал рюкзачок с теплыми вещами и, не скрываясь больше ни от кого, громыхнул своей дверью, запер на все замки и спустился к «мягкой игрушке». Она только что пришла со смены и не успела еще переодеться в свой красный шелковый халат. Одежда была на ней та, в которой Глеб увидел ее впервые…
— Я уезжаю, — сказал он с порога. — Надолго и далеко. Не ищи меня.
Она побледнела, сделалась беспомощной, как тогда, после затопления квартиры.
— Думала, ты уже уехал… — пролепетала «мягкая игрушка». — Приходила — тебя нет…
— Был дома, но не открывал, — признался Глеб.
— Погоди! Постой! Я позвоню Тане. Она сейчас прибежит…
— Не нужно! — отрезал он и протянул ей ключ от квартиры. — Передай. Пусть живет у меня. Вам вдвоем будет лучше.
Она боялась подойти к нему, прикоснуться и держалась на расстоянии, как в первый раз. Но Головеров угадывал ее желание…
— Глеб! Глеб! — неожиданно спохватилась «мягкая игрушка». — Меня преследует… этот черный! По пятам ходит! Выследил, где живу, а у меня дверь простая, фанерная… Я боюсь, Глеб! Он ворвется! Обязательно ворвется! Он вовсе не голубой, он — черный… Что мне делать?
Глеб достал пистолет, снял с предохранителя:
— Пользоваться умеешь?
— Нет! — Она замотала головой, но не испугалась оружия.
Он вложил пистолет в ее руку, поставил палец на спусковой крючок и направил ствол в паркет.
«Мягкая игрушка» хладнокровно надавила на спуск и вздрогнула от выстрела. В глазах блеснуло злорадство.
— Еще! — жестко скомандовал Глеб. — Три раза! Она выстрелила только раз, сказала жалобно:
— Паркет жалко…
Он вогнал новый магазин, оставил пистолет на боевом взводе.
— У тебя получится. Ничего не бойся. Ты станешь защищать себя. Не бойся, убивать легко… Потом бывает тяжело, даже если убил врага
Она сделала полшага вперед, осторожно взяла оружие
— Ты вернешься? Когда-нибудь?..
— Вернусь, — пообещал Глеб. Запах порохового дыма казался сладким.
— Мы за тебя молиться будем! — вдруг сказала «мягкая игрушка» и заплакала. — Почему-то так страшно, и хочется молиться.
— Ну что ты плачешь? Вернусь… Я же всегда возвращался, только ты не видела меня, и сейчас вернусь.
Из дома он уходил воровским способом — поднялся на чердак в своем подъезде и вышел через чужой…
* * *
Два дня они ходили по военному городку, намечали, что где расположить, рисовали на ходу схемы тренировочных объектов — полосу препятствий, стрельбище, стрелковые тренажеры, учебные трассы для боевой техники, изучали условия летной подготовки на вертолетах — пилотаж, десантирование, аварийные посадки, объекты для отработки саперного дела — одним словом, все заново, с нуля, по полному курсу. Военное дело, как всякое искусство, не терпело долгих перерывов: мастерство бойца утрачивалось так же быстро, как мастерство музыканта, оставившего свой инструмент. Играть на музыкальных инструментах могли и умели сотни тысяч людей, но виртуозов всегда были единицы. Так вот эту виртуозность и следовало восстановить.