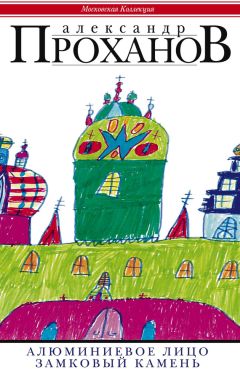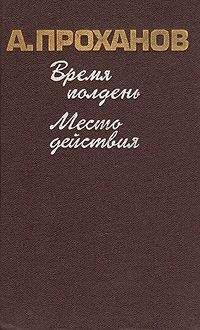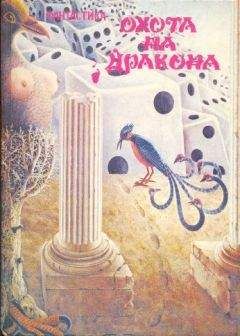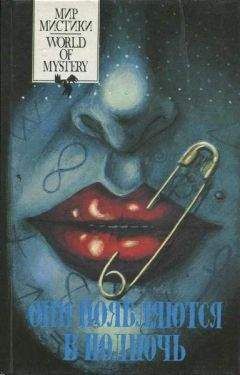Ему приснилась все та же изба, в которой он провел свое счастливое молодое время. Тети Поли не было дома, видно, она пошла через улицу к соседке посудачить, и изба, теплая, в половиках и иконах, еще была полна недавним ее присутствием. Ему очень хотелось пить. Он наклонился к ведру, которое обычно стояло полное, с душистой водой и плавающей серой льдинкой, зачерпнутой из колодца. Ведро оказалось пустым, сухим, неприятно звякнуло об пол. Он наклонился к самовару с медными боками и рогатым краном, пред которым они с тетей Полей любили чаевничать, подливая в стаканы булькающий кипяток. В самоваре обычно оставалась вода, но повернув рогатый, похожий на оленя кран, он не дождался ни капли. Был пуст рукомойник, из него не брызнула привычная струйка, не пролилась на ладони. Цветок на окне, обычно хорошо политый, с черной влажной землей, был сух, и тарелочка под горшком тоже была сухой. Жажда была нестерпима, изба была сухой и звонкой, словно прокаленной на огне.
Он вдруг вспомнил, что в столешнице, за ее стеклянными дверцами, среди чашек, стаканов, граненых чарочек и наивных стеклянных вазочек, хранится банка сладкого морса, который тетя Поля варила из лесной брусники. Радуясь своему открытию, предвкушая влажную сладость напитка, он подошел к столешнице и открыл стеклянные дверцы. Они знакомо прозвенели, но были высокие, с него ростом, как обычные двери. Он осторожно, чтобы не разбить посуду, вошел в столешницу. Обогнул голубые лафитники, стопку тарелок, хохломскую чашечку для соли, вазочку, в которую тетя Поля перед чаепитием клала карамельки. Столешница уводила вглубь, в сени, прочь из избы, где расположился зеленый луг, туманные горы, и на краю луга горел неяркий костер. Он шагнул и вышел из столешницы на волю, по другую сторону стены. Очнулся. Понимал, что случилось превращение, мир, в котором он, израненный, лежал взаперти, изменился. И он поднялся, чтобы обнаружить случившуюся перемену.
Он приблизился к дверям и тихонько толкнул. Двери растворились без скрипа. Щеколда, загнутая горбоносым, была откинута. Словно кто-то незримый, быстроногий, бесшумный и, быть может, осененный крылами пробежал, открыл щеколду. Не встретив ни души, проулком вышел на луг. Суздальцеву казалось, что сквозь бред он слышал легкое позванивание досок под стопами бегущего, легкий звон отброшенной щеколды.
Он осторожно вышел. Двор был пуст, обитатели дома укрылись под хрупкими сводами кровли, боясь удара с небес. Луг за домом туманно темнел с крохотным огоньком догорающего костра. Белесо, чуть видна, удалялась дорога. Суздальцев спустился с галереи во двор, бесшумно прошел по коврам. Приблизился к воротам и на ощупь открыл запор. Ворота слабо проскрипели, словно напутствовали его печальным звуком. Никто не окликнул его, никто не погнался. Ему казалось, что его отпускают, наблюдают за ним, чтобы потом настигнуть. Испытывая страх и надежду, кого-то умоляя спасти его, он кинулся по лугу, где еще недавно скакали кони, клубилась дикая потеха, а теперь под ногами сухо шелестела трава. Огонек костра остался в стороне, и он уже торопился, почти бежал по дороге, которая стелилась перед ним, словно ее кто-то посыпал мукой. Кишлак, вместилище его страданий и страхов, удалялся, и его зыбкая мгла отступала.
От быстрой ходьбы его запекшиеся раны снова открылись, и он чувствовал, как по бокам струится теплая кровь.
Он уходил по дороге все дальше, и жажда к нему вернулась. Ему казалось, что внутри его горит факел, и он выдыхает сухой шипящий огонь. Он думал о воде, как пьет ее, без конца, захлебываясь, как окунает в нее лицо и пускает пузыри. Как ледяная струя попадает в пищевод и желудок и гасит раскаленный факел. Ему казалось, кто-то бежит перед ним в ночи, несет чашу с водой, манит, дразнит, а он не может настичь, видит черное водяное зеркало в чаше, тянется губами, но чашу от него убирают, и он бежит, снедаемый пламенем, не в силах его погасить.
Он испытал слабый толчок, не толчок, а дуновение, которое его колыхнуло. Словно кто-то сдвинул его с дороги, направил стопы в сторону. Будто тот, кто нес чашу, повернул на обочину, покинул дорогу и двинулся степью. Суздальцев уловил это повелевающее дуновение. Перестал чувствовать пыль дороги, и теперь под ногами его шуршала степная целина, царапала ноги стеблями сухой травы, и чаша удалялась и поджидала его, вела его, направляла, муки, которые он испытывал, влекли его прочь от дороги в стороны едва различимых предгорий. «Чаша путеводная», — повторял он полубезумно.
Ему чудилось, что земля у него под ногами загорается синими огоньками, которые жалят бедра, живот, обугливают губы, ноздри, и сухой, искрящий огонь вырывается у него изо рта. Он кашлял огнем, плакал огнем, кровавые раны горели на нем, как газовые горелки.
Степь волновалась, он то погружался в низины, то восходил на холмы. Звезд он не видел, все над ним и в нем и вокруг мерцало горячим пеплом. Чашу от него уносили, и ему казалось, он чувствует запах воды, ловит лицом мельчайшие брызги, слышит, как вода тихо звякает от края чаши.
Он взошел на холм, стоял на вершине, качаясь, а потом рухнул плоско, лицом в землю, забываясь не сном, а жарким кошмаром, и ему казалось, все его тело обложили горчичниками.
Он очнулся от низкого солнца, которое встало из-за холмов. Приоткрыл жестяные, скрипнувшие веки и увидел у подножья холма кишлак. Он испугался, что был весь на виду, был заметен из кишлака, и сейчас оттуда поскачут всадники или запылит по степи машина, и он вновь окажется в плену у врагов. Но кишлак был беззвучен. Над ним не струились утренние дымки, не кричал муэдзин, не лаяли собаки. Его вид был странен. Дувалы, стены домов, купола и угловые башни — все были зазубрены, состояли из заострений, проломов, уродливых углов, напоминая челюсть с выбитыми зубами. На земле лежали зубчатые глыбы, а глиняная желтизна стен была покрыта черными пятнами, тусклыми налетами копоти, мазками сажи, словно кишлак был накрыт камуфляжем или задернут маскировочной сеткой. И оттуда, вверх по холму, вместе с утренним ветерком сочилась гарь, тянуло ядовитым газом. И Суздальцев вдруг понял, что перед ним кишлак, в котором вчера ночью взорвалась тактическая ракета, страшный взрыв снес постройки, изглодал стены, и ядовитое топливо расплескало по кишлаку свою плазму. Кишлак обломками напоминал древние города пустынь, на которые произошло нападение, и работу стенобитных машин довершили солнце и ветер.
Кишлак был испепелен, но в нем должна была сохраниться вода. И Суздальцев поднялся, стал спускаться с холма, представляя, как на обугленной улице в солнечном пекле стоит чаша с водой, и он прильнет к ней устами.
Он спустился с холма и вошел в кишлак. Улица, на которую он ступил, была окружена рухнувшими дувалами, и в выломленных дырах виднелись дворы. Кругом лежали комья обгорелого тряпья, разорванные одеяла, подушки, обрывки ковров. Среди тряпья вспыхивала медная посуда, осколки стекла, валялось окованное медью седло, смятый самовар, переломанная домашняя утварь. Казалось, вихрь, пролетевший по улице, высосал из домов воздух, а вместе с ним скарб разоренных жилищ. Чудилось, по этой улице прокатил громадный мусоровоз, роняя хлам, покрывая землю рыхлыми горелыми ворохами.
Суздальцев шел дальше и увидел ужасное небывалое зрелище. В глиняную высокую стену была вплавлена хребтом лошадь. Она сидела, и ноги ее были выставлены вперед, словно она продолжала скакать в небо. Копыта ее были обуглены, пахли паленой костью. Часть морды была сожжена, и сквозь распавшиеся губы дико белели зубы, словно лошадь продолжала ржать. Ее живот прогорел, и из него вывалились фиолетовые, вспухшие от жара кишки. Он постарался поскорее пройти мимо. На соседней глиняной башне стеклянно блестело солнце, глина расплавились, потекла, и башня с одного края казалась глазированной.
Сквозь проломы в стенах виднелись дворы, и дальше виноградники — ровные ряды черных, узловатых, корявых лоз. И по всему винограднику, зацепившись за лозы, висели женские платья, паранджи, шаровары, накидки, но людей видно не было, словно они превратились в корявые лозы, оставив висеть развеянные одежды. Так проревел, разметал, оплавил кишлак огненный шар света, который Суздальцев наблюдал в ночи накануне. Теперь он искал воду. Забредал в дворы, в поисках колодца, в поисках ведер и глиняных сосудов, где могла сохраниться вода. Но огненный шар, пролетев над кишлаком, иссушил колодцы, выпарил воду. И он тупо и без надежды переходил из одного двора в другой.
Он нашел на земле простыню и завернулся в нее, спасая раненое тело от горячего солнца.
Увидел стену, в которой ворота были сорваны с петель. Вошел во двор, заваленный мусором снесенной кровли. Двери дома были выдраны и валялись посреди двора. Он вошел и стал переходить из комнаты в комнату, по которым промчался огонь. И вдруг в самой дальней, выходившей окнами в сад, увидел на полу кувшин. Его горловина и ручка были снесены осколком, но на донце сохранилась вода, блестела в выпуклом черепке. Он возликовал, поднял черепок и стал приближать к распухшим губам, чтобы сделать спасительный глоток. За стеной, в саду раздался долгий, заунывный стон, который помешал ему напиться. Там, за стеной, мог находиться уцелевший в огне стрелок, приготовивший для него пулю. Там мог находиться мститель — моджахед, который перед смертью несет ему удар возмездия. Суздальцев опустил на землю черепок. Прокрался к дверям и выглянул.