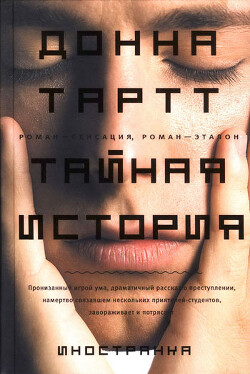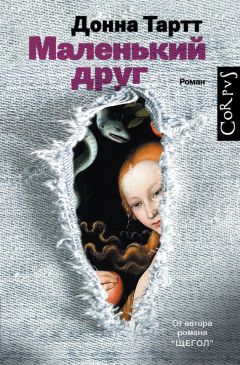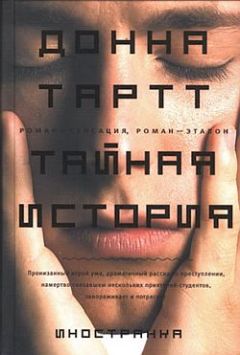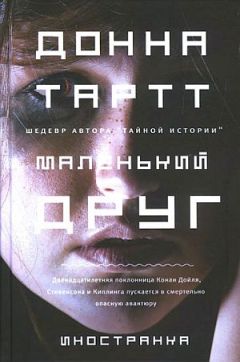Третий юноша из этой пятерки выглядел необычнее всех. Элегантный, с острыми выступами локтей и плеч и нервными движениями рук, он был таким худым, что, казалось, вот-вот сломается. Лукавое, белое, как у альбиноса, лицо венчала аккуратная огненная копна самых рыжих волос на свете. Я полагал (ошибочно), что он одевается, как Альфред Дуглас или граф де Монтескью: [6] великолепные накрахмаленные рубашки с отложными манжетами, изумительные галстуки, легкое черное пальто, полы которого вздымались на ходу и придавали ему сходство с королем студенческого бала и Джеком-потрошителем одновременно. Как-то раз я с восхищением заметил у него на носу пенсне. (Позже выяснилось, что оно ненастоящее, в оправу вставлены простые стекла, а зрение у него на порядок лучше моего.) Его звали Фрэнсис Абернати. Дальнейшие расспросы вызвали подозрение у моих знакомых мужского пола, недоумевавших, с чего бы мне интересоваться такой особой.
И наконец, были еще двое, юноша и девушка. Я часто видел их вместе и сначала принял за обыкновенную парочку, но однажды, рассмотрев поближе, догадался, что они брат и сестра. Позже я узнал, что, более того, они — близнецы. Сходство их было удивительным — оба с густыми русыми волосами и лишенными явных признаков пола лицами, такими же ясными, радостными и полнокровными, как лица ангелов на картинах фламандцев. Пожалуй, они так сильно выделялись в Хэмпдене, где кишмя кишели непризнанные гении и начинающие декаденты, а в одежде de rigueur [7] считался черный цвет, еще и потому, что предпочитали носить светлые, особенно белые, вещи. В удушливом смоге сигарет и мрачных умствований они мелькали то тут, то там, словно аллегорические фигуры из старинной постановки или призраки гостей давным-давно минувшего чаепития в саду. Они были единственными близнецами на кампусе, и узнать их имена было нетрудно: Чарльз и Камилла Маколей.
Все они казались мне абсолютно недоступными. И все же я с интересом наблюдал за ними при всякой возможности: вот Фрэнсис, нагнувшись, беседует с сидящим на ступеньке крыльца котом; вот Генри проносится мимо в маленькой белой машине, на сиденье рядом с ним — Джулиан собственной персоной; вот Банни, высунувшись из окна второго этажа, что-то кричит близнецам на лужайке. Постепенно ко мне просочились еще кое-какие сведения. Фрэнсис Абернати приехал из Бостона и, по слухам, был юношей весьма состоятельным. Генри, как говорили, тоже был не беден, к тому же отличался феноменальными лингвистическими способностями. Он знал несколько языков, древних и современных, и в восемнадцать лет опубликовал комментированный перевод Анакреона. (Мне рассказал об этом Жорж Лафорг; правда, когда мы коснулись этой темы, он стал мрачен и немногословен. Позже я узнал, что на первом курсе Генри поставил его в ужасно неловкое положение перед всем факультетом, когда Лафорг отвечал на вопросы после своей ежегодной лекции по Расину.) Близнецы снимали квартиру в городе и были родом откуда-то с юга. А Банни Коркоран имел обыкновение слушать у себя в комнате марши Джона Филипа Суза — поздно ночью и на полной громкости.
Все это вовсе не значит, что я был занят исключительно подобными наблюдениями. Я только начал привыкать к колледжу, занятия шли полным ходом, к тому же немало времени у меня отнимала работа. Мой острый интерес к Джулиану Морроу и его греческим ученикам уже начал ослабевать, когда произошло одно удивительное совпадение.
Шла вторая неделя моего пребывания в колледже. В среду утром, перед второй парой, я заглянул в библиотеку, чтобы отксерокопировать кое-что для доктора Роланда. Спустя полчаса, когда у меня уже рябило в глазах, я вернул ключ от ксерокса библиотекарше и пошел к выходу, но тут заметил Банни и близнецов. Они сидели за столом среди хаоса бумаг, перьевых ручек и пузырьков с чернилами. Мне особенно запомнились эти пузырьки — я был буквально очарован ими и еще длинными черными ручками, до ужаса архаичными и неудобными на вид. На Чарльзе был белый теннисный свитер, а на Камилле — летнее платье с матросским воротничком и соломенная шляпка. Банни свой пиджак бросил на спинку стула, и на подкладке всем на обозрение красовалось несколько внушительных пятен и прорех. Сам он сидел в мятой рубашке, закатав рукава и водрузив локти на стол. Все трое разговаривали вполголоса, сдвинув головы.
Внезапно мне захотелось узнать, о чем они говорят. Я направился к книжной полке позади их столика медленным, неуверенным шагом, словно бы не зная толком, что мне нужно, подбираясь все ближе и ближе, пока не подошел к ним почти вплотную, так, что мог бы тронуть Банни за плечо. Повернувшись к ним спиной, я взял с полки первую попавшуюся книгу — какой-то нелепый сборник работ по социологии — и сделал вид, что изучаю указатель. Ресоциализация. Респонденты. Референтные группы. Рефлексия.
— Я не уверена, — услышал я голос Камиллы. — Если греки плывут к Карфагену, то здесь должен быть винительный. Помните? Отвечает на вопрос «куда?». Так по правилу.
— Не годится.
Это был Банни. Он говорил, растягивая слова и слегка гнусавя, — У. К. Филдс с особо тяжелым случаем лонг-айлендской манеры цедить сквозь зубы.
— Здесь не вопрос «куда?», а вопрос «где?». Ставлю на аблатив.
Озадаченное молчание и шелест страниц.
— Стоп, — сказал Чарльз; его голос, хрипловатый и слегка южный, был очень похож на голос сестры. — Смотрите, они не просто плывут к Карфагену, они плывут его штурмовать.
— Ты с ума сошел.
— Нет, так и есть. Посмотрите на следующее предложение. Здесь нужен дательный.
— Ты уверен?
Опять шелест страниц.
— Абсолютно. Epi tō Karchidona.
— Ничего не получится, — авторитетно заявил Банни. Судя по голосу, можно было подумать, что у меня за спиной сидит Терстон Хауэлл из «Острова Джиллигана». — Аблатив — то, что доктор прописал. Обычное дело — если не можешь определить падеж, значит, это аблатив.
Секундная пауза.
— Банни, что ты вообще несешь? — вздохнул Чарльз. — Аблатив — латинский падеж.
— Ну разумеется, я в курсе, — раздраженно ответил Банни после некоторого замешательства, говорившего скорее об обратном. — Ты же понял, о чем я. Аорист, аблатив — один черт, честное слово…
— Нет, Чарльз, — вмешалась Камилла, — дательный здесь не подходит.
— Говорю тебе, подходит. Они ведь плывут, чтобы штурмовать город, так?
— Да, но ведь греки плыли через море и к Карфагену.
— Но я же поставил впереди epi!
— Ну да — вполне можно употребить epi, если мы штурмуем город, но по первому правилу здесь нужен винительный падеж.
Самость. Самосознание. Сегрегация. Я уткнулся в указатель и принялся ломать голову над нужным падежом. Греки плывут через море к Карфагену. К Карфагену. Вопрос «куда?». Вопрос «откуда?». Карфаген.
Вдруг меня осенило. Я закрыл книгу, поставил ее на полку, повернулся к их столику:
— Прошу прощения.
Они сразу же прервали разговор и, подняв головы, изумленно уставились на меня.
— Извините, но, может быть, подойдет местный падеж?
Некоторое время все молчали.
— Местный падеж? — удивился Чарльз.
— Просто подставьте к Karchido ze, — продолжил я как можно более уверенным тоном. — По-моему, это ze. Тогда вам не понадобится предлог — кроме epi, конечно, если они отправились на войну. Ze подразумевает «по направлению к», так что и насчет падежа можно не волноваться.
Чарльз посмотрел в свои записи, вновь на меня.
— Местный? Звучит как-то сомнительно.
— Ты когда-нибудь встречал Карфаген в этом падеже? — спросила Камилла.
Об этом я не подумал.
— Вообще-то нет. Но мне точно встречались Афины.
Чарльз пододвинул к себе словарь и принялся его листать.
— А, черт, да не возись ты, — махнул рукой Банни. — Если не надо ничего склонять и можно обойтись без предлога, то, по-моему, лучше просто не бывает. — Он откинулся на спинку стула и взглянул на меня. — Позволь, я пожму твою руку, незнакомец.