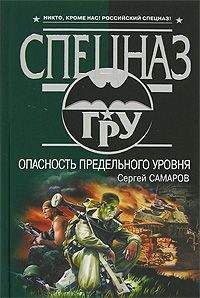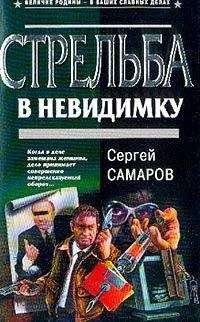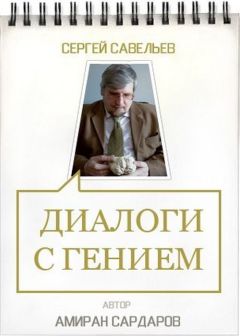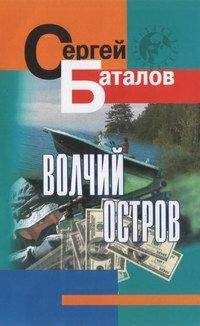Одеваясь, Джабраил проверил паспорта. В правом внутреннем кармане дипломатический паспорт, в левом внутреннем кармане паспорт российский. Этот – на случай, если заявятся в квартиру проверить жильца. Приходили же к первой прибывшей в Москву тройке. Могут и к нему прийти. Надо быть настороже... К расположению паспортов он привык и уже не спутает при необходимости.
Сунул руки в карманы, отыскивая ключ, и нащупал в одном из карманов диктофон, о котором после поезда просто забыл. Джабраил знал, то, что может показаться интересным и удачным сразу, потом может оказаться сущей ерундой. Стоит сейчас, даже малое время спустя, прослушать. Перемотал кассету и сел, не раздеваясь и не разуваясь, в кресло. Включил музыку. Начало было известно. Та женщина, когда-то, наверное, музыкальную школу закончившая, играла, не вызывая из инструмента ни одного чистого звука. Это не профессионально, звуки должны вытекать один из другого, но ни в коем случае один другому не мешать.
Джабраил раздраженно перемотал пленку дальше. Нашел свою игру. Включил.
Он умел относиться к себе трезво. Потому понимал прекрасно, что все навыки пианиста он давно потерял. Да он и не был никогда пианистом-исполнителем. Он только свою музыку играл. Но свою музыку он всегда играл хорошо. В этот раз играл плохо. Тогда, в поезде «Красная стрела», слушая, он еще не понимал этого. Тогда в нем еще эйфория от случившегося жила, и музыка еще в ушах сама по себе, отдельно от записи, звучала и подправляла то, что не удавалось сыграть. Сейчас он слышал себя со стороны и, даже делая скидку на диктофонную низкоскоростную запись, понимал, что играл не просто плохо, а очень плохо. Нельзя играть с такими деревянными пальцами. С такими пальцами следует дрова колоть или из автомата стрелять.
Но он все же дослушал до конца. В принципе это был готовый черновик, набросок, этюд... То, с чем следует еще работать... Как он назвал это? Реквием по амнистии... Да, здесь достаточно горьких трагических нот, соответствующих именно реквиему. Многое следует усилить, многое следует вообще выбросить или переделать основательно. Но это – его работа, это его жизнь, думая о музыке, он обо всем остальном забывает. Он переделает, он выбросит, он подчистит, что можно подчистить, и сотворит вещь...
Сотворит вещь? Когда? У него есть на это время? У него есть возможность полностью углубиться в звуки и не отвлекаться на взрывы и автоматные очереди?
Он слишком другим занят, хотя хочет делать именно это.
Хочет делать это? Так зачем ему нужно все остальное?
И нужно ли оно ему вообще?
Он рожден для музыки. Ему предрекали будущность гения. Пусть гений не состоялся, пусть. Но реквием он напишет.
Напишет реквием по амнистии, а потом будет писать что-то другое. Он вернется в музыку, чтобы жить в ней. Только надо работать. Очень много работать. Сутками работать.
Работать, уйти в музыку и работать? Но опять – есть ли время для этого? Как его найти?
Будет время! – решил Джабраил. То, что он сделает в Москве, будет последним его делом... А потом... А потом – музыка... Вечная музыка...
Она уже зазвучала в ушах...
* * *
Никогда в жизни Сохно не пил столько чая, сколько пил его в поезде. Стакан за стаканом, стакан за стаканом, вызывая удивление проводника. И даже не смущался тем, что чай был плохой, безвкусный. От скуки, что ли, но ему почему-то очень хотелось пить.
С ним в купе ехали муж с женой и мальчишка лет тринадцати. Мальчишку везли в Москву на лечение, что-то у него с глазами было не в порядке, и это было видно даже со стороны. Чеченская семья, интеллигентная в меру. Но разговаривали соседи между собой только на чеченском языке, и Сохно, естественно, ничего понять не мог. С ним, конечно, несколькими фразами на русском обменялись, но не больше. Он выходил в коридор, прислушивался, но русскую речь уловить не мог. И потому сначала показалось, что он вообще во всем вагоне оказался единственным русским. Но потом заметил, как прошел в туалет, придерживая на груди большой крест, пузатый православный священник. Значит, есть с кем при необходимости и по-русски пообщаться...
На каждой остановке Сохно выходил на перрон, чтобы наблюдать за вагоном, где ехали амнистированные. Его пост – дальний. По две стороны от объекта наблюдения расположились Согрин и Кордебалет. Сохно оставили на всякий случай подальше. Тем не менее работой подполковник не пренебрегал и выполнял ее добросовестно, что, впрочем, никому не было заметно, потому что на таком расстоянии он мог позволить себе не прикладывать к глазам бинокль. Да и надобности в этом не возникало, поскольку амнистированные на перроне не показывались.
В Моздоке Сохно покупал в киоске на перроне колбасу и хлеб.
– Пост рождественский в разгаре... Нельзя православному человеку колбасу есть, – услышал за спиной густое ворчание. – Иль ты басурманин...
Не оборачиваясь, подполковник понял, что священник вышел себе купить что-то в дорогу. Дождавшись, когда тот загрузит карманы несколькими яблоками и целлофановым пакетом с заветренными оладьями, Сохно, за несколько часов соскучившийся по русской речи, заговорил сам:
– У меня, батюшка, служба такая, что без мяса трудно. Организму белок требуется.
Рядом они пошли к дверям вагона.
– Военный, что ли? – Батюшка то ли откровенно ворчал, то ли просто имел такую нравоучительно-недовольную манеру разговора.
– Военный...
– Тем паче богобоязненным, стало быть, надо. А что хромаешь? Небось ранили.
– Ранили, батюшка.
– Вот-вот. Есть, стало быть, за что. Богобоязни в народе нет, оттого и все беды наши.
– У меня, батюшка, дед был богобоязненным. Помню, бабушка ругалась, говорила, как пост начнется, дед опять будет одной водкой питаться.
– Тьфу ты, – сказал священник, но все же улыбнулся шутке. – Куда добираешься?
– В Москву. Командировка кончилась.
– Сам-то, по разговору судя, не москвич.
– Сам я отовсюду, но теперь в Москве служить буду.
– Бог даст, свидимся.
– Все может быть, – согласился Сохно. – Извините...
И заторопился вперед на сигнал Согрина. Полковник тоже пошел навстречу. Остановились как раз под окнами вагона, где ехали амнистированные.
– Новости есть, – сразу сообщил полковник. – Я сейчас Басаргину звонил. Джабраил Алхазуров в Москве. Дожидается, когда соберутся остальные. И очень ждет нашу десятку, которая увеличится на одного человека.
– На хромого, – понял Сохно.
– Нет, на Урусхана Датуева, который будет жить вместе с амнистированными. Предположительно, Урусхану отведена роль их палача.
– Это его основная профессия, – согласился Сохно.
– Где-то они должны встретиться. Посматривай. Может, Урусхан в этом же поезде едет. Может, уже в Красногорске сидит, дожидается. Наша задача – перехватить его при первой возможности. Желательно перехватить живым.
– Это, батюшка, тьфу ты, командир, моя задача. – Сохно потер скулу, где шрам был едва заметен. – Он меня ловко под собаку подставил, но я сам из породы волкодавов.
– Еще новости... Председатель антитеррористического комитета уже в курсе событий, дал генералу Астахову «зеленый свет»...
– Чуть-чуть легче, но это их игры. Мы давно с «зеленым» работаем. Я так вообще люблю его сам себе включать.
– Ладно, спеши, а то поезд трогается.
Поезд в самом деле готовился к отправлению. Сохно заспешил, хромая сильнее обычного. Нога болела. Он и в купе, когда занял свое место и выложил колбасу с хлебом на стол, почувствовал, как болит нога. Прислушался к себе. Показалось, что слегка поднялась температура. Может быть, потому так много чая потребляет...
* * *
Генерал Астахов позвонил и предложил Басаргину дать возможность Тобако немного отдохнуть от длительного дежурства, а взамен обещал прислать сотрудника, знающего чеченский язык. Не переводчика, а оперативника, который может заменить Андрея Вадимовича полностью.
– Вам, как я понимаю, просто не терпится с ним побеседовать? – понял Басаргин подспудную часть предложения генерала.
– Угадали, Александр Игоревич, угадали... Можно это организовать?
– Только после беседы со мной.
– Тогда почему бы нам не объединить два схожих желания в одно? Насколько я помню, Андрей Вадимович считается у вас лучшим водителем. Говорят, он умеет перелетать через пробки. Заехал бы за вами, потом вместе приехали бы ко мне.
– Невозможно. Я сам сейчас за Тобако поеду. Он пьян, и в таком состоянии за руль не садится. Только в условиях сложной оперативной обстановки. Пока такая обстановка не настала, следовательно, я поеду за ним сам.
– Значит, решено. – Генерал делал вид, что не понимает, как дело обстоит. – Значит, заедете ко мне?
Басаргин засмеялся:
– Заедем, товарищ генерал. А Тобако все равно оттуда можно снимать. За квартирой только Пулатов будет наблюдать. Запись идет на всякий случай. А телефонные разговоры Доктор фиксирует. Если кто-то приедет, Пулатов доложит обстановку. Завтра Пулатова сменит Ангелов.