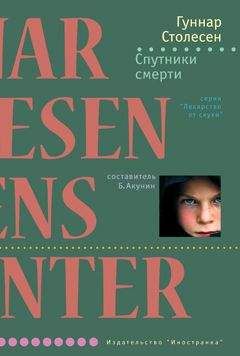Когда из зала выводили Яна Эгиля, он впервые бросил взгляд на публику. И я еще раз увидел его глаза, излучающие неприкрытую ненависть, будто он возлагал лично на меня всю вину за то, что с ним произошло.
Уже на следующий день присяжные вынесли свой вердикт. Ян Эгиль Скарнес был признан виновным по всем пунктам обвинительного заключения, после чего судьи удалились на совещание для вынесения окончательного приговора и определения меры наказания.
В тот день мне удалось перекинуться парой слов с Лангеландом. Я поблагодарил его за все, что он сделал, и спросил, какой срок определят Яну Эгилю.
— Сейчас сказать невозможно, Веум. От пяти до пятнадцати, и боюсь, скорее всего дадут именно пятнадцать.
— Пятнадцать!
— Да, так-то вот. — И успешный адвокат повернулся и пошел прочь с таким угрюмым выражением лица, как будто этот проигрыш был невыносим лично для него.
Слушая вердикт присяжных, Ян Эгиль предпочел не вставать — он сидел на своем месте и ни разу не поднял глаза во время объявления приговора. Лангеланд несколько раз наклонялся к нему и что-то тихо говорил, очевидно, разъяснял значение сложных юридических терминов. Яну Эгилю дали двенадцать с половиной лет тюрьмы с зачетом предварительного заключения. Судя по его лицу, он не понял ни слова из того, что было произнесено, и только по знаку адвоката поднялся с места в тот миг, когда судьи покинули зал заседаний, бросив последний долгий взгляд на осужденного.
Пока дело рассматривалось в Гулатинге, его активно освещала пресса: новые фотографии хутора в Аньедалене, версии того, что произошло в спальне Кари и Клауса Либакк в виде газетных рисунков, на которых фигура подозреваемого была дана схематично и никто конкретный в ней не угадывался. Только после того как Верховный суд рассмотрел дело и оставил приговор окружного суда без изменения, имя осужденного появилось в прессе. Сообщения о суде сопровождались в газетах дискуссией, иные участники которой заявили: судьи-де вынесли слишком мягкий приговор, что доказывает излишнюю снисходительность судебной власти по отношению к серьезным преступникам.
Йенс Лангеланд написал опровержение, в котором говорилось и о юном возрасте обвиняемого, и о том, что истинные события той роковой ночи с воскресенья на понедельник в последнюю неделю октября прошлого года для многих, в том числе и для самого Лангеланда, оставались невыясненными. «Можем ли мы быть уверены в том, что настоящий преступник или преступники не находятся сейчас на свободе, рядом с нами?» — так заканчивалась его статья, породившая тревогу даже в моей душе. Эта тревога тлела, не ослабевая, пока не разгорелась сильным пламенем тем сентябрьским днем, когда мне на работу позвонила Сесилия Странд и попросила встретиться с ней на Фьелльвейен.
Все эти годы я не забывал Яна Эгиля. Мне так и не удалось смириться с утверждением, что в его деле все обстоятельства учтены и вина неопровержимо установлена. Несколько раз я чуть было не позвонил Йенсу Лангеланду, который, насколько мне было известно, так и оставался его адвокатом, но каждый раз отбрасывал эту мысль. Зачем? — спрашивал я себя.
И вот теперь на скамейке у остановки автобуса передо мной сидела Сесилия, освещенная низким солнцем уходящего лета, и внимательно смотрела на меня сквозь круглые очки — она только что сообщила мне, что моя фамилия значится в списке приговоренных Яна Эгиля.
Я попросил ее:
— Давай поподробней, а?
— Расскажу все, что знаю, — согласилась она.
— Яна Эгиля выпустили?
— Да, он вышел в мае на свободу. Отсидел десять лет. Вышел бы и раньше, но заключенным он был не из примерных.
— Долго же они ждали, прежде чем его выпустить… Чем он занимается сейчас?
— Тут есть определенные проблемы. Служба надзора за освободившимися из мест лишения свободы пристроила его на работу в автомобильную мастерскую, но ему быстро там надоело. Потом он подрабатывал в разных местах, сошелся с другими отсидевшими срок парнями… Связи, которые они налаживают между собой за решеткой, часто сопровождают их и на свободе, и я боюсь, что он уже свой в преступной среде Осло.
— Понятно… Продолжай! — нетерпеливо сказал я.
— Он жил в хосписе на улице Эйрика у станции метро «Тёйен». Это что-то вроде частного приюта для социально неустроенных людей. А держит его наш с тобой старый знакомый — Ханс Ховик.
— Ханс! Так вот как у него жизнь сложилась. Он так и не смог бросить эту работу.
— Да, но давай все же о деле. В этот понедельник в его хосписе был найден мертвым один из постояльцев. Его забили до смерти, видимо, еще в выходные.
— Ну и что? А Ян Эгиль к этому какое имеет отношение?
— Тело обнаружил один из жильцов и оповестил об этом Ханса, который вызвал полицию. Согласно инструкции, полицейские стали обходить все комнаты, чтобы опросить, не слышал или не заметил ли кто-нибудь что-то необычное за последние дни. Яна Эгиля не было, но в его комнате они нашли… — она немного помедлила, а потом продолжила: — …окровавленную биту.
— У меня такое неприятное ощущение, что я об этом слышу уже не в первый раз.
Сесилия была со мной совершенно согласна.
— К тому же выяснилось, что убитый был знаком с Яном Эгилем. Другими словами… Ян, похоже, вновь попал в переплет. Пока его только допросили, но через несколько дней эта история попадет в газеты.
— Мне надо будет выяснить подробности. А что ты там сказала о списке приговоренных?
— Может, я немного сгустила краски, назвав это именно так. Мне об этом рассказала женщина — мать его ребенка.
— Когда же он успел обзавестись…
— Его отпускали на некоторое время. Знаешь, это называется «пробное освобождение» — попытка проверить, способен ли заключенный к социальной адаптации. Конечно, все освобожденные находятся под надзором.
— Знакомая история.
— Да, его ребенок повторяет его судьбу.
— Из этого порочного круга чертовски тяжело вырваться! Как ты думаешь, словам этой женщины можно доверять?
— Почему нет? Ее, кстати, зовут Силье.
— Силье? Это случайно не та самая девушка…
— Думаю, да.
— Боже мой! Дождалась, значит. А что конкретно она рассказала?
— Что Ян Эгиль много раз говорил, что должен прикончить по крайней мере двоих. Они больше остальных виноваты в том, что с ним произошло.
— Я-то чем перед ним провинился?!
— Ты работал в охране детства, когда его забрали у матери. Ведь так?
— Да, но это же не я…
— Ты стал своего рода символом ненавистной службы, которая в очередной раз вмешалась в его жизнь — теперь, когда мы опекаем его малыша. Ханс решил обязательно тебя об этом предупредить.
— Но, ты сказала, он говорил о двоих?
— Да. Вторым был как раз тот, кого нашли мертвым несколько дней назад. Его избивали битой, пока… — Она вздрогнула всем телом, будто ей внезапно стало холодно. — Пока он не стал совершенно неузнаваем.
— Но, как я понимаю, тело идентифицировали?
— Да, конечно.
— И кто же это?
На какое-то мгновение ее взгляд скользнул вниз, на фьорд. Затем, глядя мне в глаза, она решительно произнесла:
— Ты знаешь его, Варг, — и вновь замолчала. Я почувствовал, как в душе поднимается тревога.
— Говори, не тяни! Кто это? Это не…
— Терье Хаммерстен.
На следующий день была пятница, и мы улетели в Осло первым же утренним рейсом. Стюардессы с привычными улыбками разносили завтрак; плато Хардангервидда лежало под нами как черно-серо-коричневое лоскутное одеяло.
Сесилия сидела, пила маленькими глоточками кофе, а потом вдруг сказала:
— В тот раз в Фёрде, в восемьдесят четвертом…
— М-м-м?
— Ты познакомился с нашей коллегой — Грете Меллинген.
— Да. Но мы с ней больше не виделись. Только тогда.
— Она хорошо о тебе отзывалась.
— Ты с ней встречалась?
— Пару лет назад, на профессиональном семинаре.
— Ты же знаешь, как это бывает. С одними людьми ты продолжаешь общаться, другие исчезают из твоей жизни. А через десять лет поздно налаживать отношения, да и вряд ли получится.
— Ну, это ты зря… — покосилась она на меня. — А ты по-прежнему один, Варг? Можешь не отвечать, конечно. Просто интересно.
— Я сказал тебе правду: я не вернулся к ней в Фёрде, а она ни разу не появилась в Бергене. Вот я и решил: капризная принцесса из сказки.
— Я не хотела…
— Да ладно. Грете тогда рассказала мне интересную историю о человеке, которого прозвали Трудальский Мадс. Его осудили за убийство, которого он, возможно, и не совершал — по крайней мере, так она считает. Его посадили в тысяча восемьсот тридцать девятом на сорок два года.
— Сорок два! — Сесилия была потрясена.
— Такой срок был назначен, потому что он пообещал расправиться с родителями — они на него донесли. Поэтому он сидел в Аркерсхюсе, пока отец и мать не скончались, так что пришлось долго ждать. Я до сих пор не могу избавиться от мысли, что эта история напоминает историю Яна Эгиля.