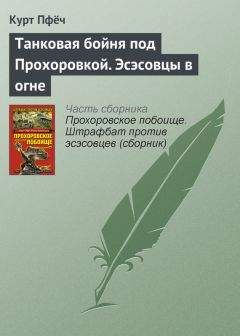В любом случае, не беспокойтесь. Худое споро, не сорвешь скоро».
Он еще раз перечитал письмо. «Нет, такое домой посылать нельзя. Там они все в обморок попадают».
– А теперь – спать!
Когда медсестра увидела его удивленные глаза, улыбнулась и сказала:
– Завтра тоже будет день, не так ли?
Он лег. Одеяло было легким, белым и чистым. В зале постепенно становилось тихо. Кто-то стонал. В оконные стекла стучал дождь. Проклятый дождь. Культя руки горела и пульсировала.
Он посмотрел в потолок, притянул губу к носу, слегка повозился туда-сюда, глубоко вздохнул. Эрнст – Дори – Ханс. Ханс?
Длинного он больше так и не видел. Удалось ли ему выбраться? Дори отвез Эрнста в тыл. Эрнст хотел еще позаботиться на перевязочном пункте о Пауле, а Дори должен был отправиться назад в роту, по возможности с боеприпасами и продовольствием. Но он не приехал до их последней атаки. В любом случае, оба из нее вышли, совершенно точно. Он почувствовал, как глаза налились слезами. «Рева, – ругнулся он про себя, – сейчас, когда все позади, тебе уже всего хватает, а ты начинаешь реветь, как разочарованная девочка».
Уни? Зепп, Пауль, Эрнст и он, может быть, Ханс и еще Шалопай. Это – в лучшем случае, семь из двенадцати, нет, с пополнением – семь из шестнадцати, которые выжили.
Он натянул одеяло до подбородка, почувствовал приятное тепло постели, прислушался к тихой дроби дождя и почувствовал ритм дергающейся культи. Что сказала медсестра? Завтра тоже будет день?
«Правда. Редкое чувство, новое, непривычное чувство. Сознание того, что завтра тоже будет день, снова день, совершенно точно день, и ты его проживешь».
Комната была не большой и не маленькой, не загроможденной и не бедной, обставленной не без вкуса. Типичной. Кровать, круглый стол со стульями, софа, комод с тазиком для умывания и кувшином и огромный платяной шкаф. На стенах две картины – «Рыбак на Кёнигсзее» и, прямо напротив нее «Охота Еннервайна». Жилище студента.
Ничего особенного, но среди руин, развалин, пепла и воронок от бомб – светлый мир. Светлый мир в Мюнхене, Зендлинге летом 1947 года.
– Еще хочешь?
Светловолосый хозяин комнаты покачал головой, улыбнулся и сыто откинулся назад:
– Нет, Эрнст. При всем моем желании, больше не могу.
Жареная селедка болталась, удерживаемая за хвост большим и указательным пальцами над коричневой оберточной бумагой.
– А я бы еще не прочь.
«Он совсем не изменился. Какая радость наблюдать за ним, когда он ест, – улыбнулся Блондин, – и если бы я не был сыт по горло, то у меня снова разыгрался бы аппетит».
– Ну, рассказывай. Или можешь предложить что-то другое?
– Да? Про что?
– Про что! Я про тебя ничего не знаю с Прохоровки. Только не на твоем баварском диалекте!
– Ты даже передохнуть не даешь.
– Итак?
– Итак… После того как я в балке раздал остатки организованной мною жратвы, забрался на мотоцикл Дори. Мне было трудно удержаться на заднем сиденье, так как Дори ехал как чемпион мира по слалому. После того как обстрел немного стих, после того как ночной воздух снова стал пахнуть воздухом, а не нефтью и дымом, я стал осознавать, что сражение под Курском для меня отгремело.
Мы сдали Пауля на перевязочный пункт. Потом мне пришлось ждать. У меня было время. Так много времени, что я очень пожалел о том, что так щедро распорядился своими запасами жратвы. Сейчас бы перекус был очень кстати…
Он продолжал рассказывать о снабжении, перевязке, отправке в госпиталь, об операции. Блондин вопросов не задавал.
– Когда я лежал на носилках, санитар улыбнулся и сказал: «О том, можно ли еще спасти руку, решат в тыловом госпитале на территории рейха». Я кивнул, и для меня стало ясно, что принимать это решение не поручу никому, кроме самого себя. И снова у меня было время. С тем различием, что было что-то поесть. Но я должен все-таки сказать, что мне, как человеку, способному прокормить самого себя, как организатору, – да, Цыпленок? – приходилось существенно легче.
Наконец я сел в санитарный поезд и отправился на запад. И…
Он рассказывал дальше, от отпуска по ранению, дальнейшего пребывания на фронте до попадания в плен, а Блондин наблюдал за другом, за тем, как он сидит, слегка наклонившись вперед, поставив ноги под широким углом, опираясь локтями о стол. Раньше он смотрел на мыски сапог, а теперь он смотрит на свой стакан. «Ничего не изменилось. Ничто его не изменило. Он такой, как был всегда – крепыш, как говорят баварцы, образец здорового мужика, спокойного, умелого, твердолобого до упрямства и храброго до легкомыслия.
– А ты?
Блондин отпил глоток и пустил сигаретный дым в стакан. Он посмотрел, как расходятся клубы, и едва заметно кивнул.
– Дым, чад. Мы начали с ночи под Прохоровкой. После того как тебя ранили и ты успел все же вовремя уехать, остатки каши мы должны были расхлебывать одни. Хотя иван не прорвался, но по совершенно непонятным тогда для нас причинам на рассвете следующего дня мы отошли.
Сегодня я знаю, почему битва под Курском была прервана и почему не захотели нанести хотя бы половину удара, как это предлагал Эрих фон Манштейн. Сегодня тоже известно, что у ивана за Прохоровкой тоже ничего не было. Остановить он нас не смог бы. А высадка союзников в Италии? Кого это беспокоило под Курском? И приводимые сегодня оправдания, что удар из-под Орла навстречу нашему удару от Харькова не имел успеха, тоже не имеют под собой основания. Мы, мы сами все упустили! Более того, мы дали ивану время отдохнуть, укрепиться, а потом перейти в наступление, смявшее все южное крыло фронта. Как ты понимаешь, боевой дух был нулевой.
Постоянные дожди. Боеприпасов нет, есть нечего. Численность роты сократилась до взвода. И отступление. И иван, который, по крайней мере, был настолько же измотан, как и мы, однако чувствовал запах жареного и наступал, пусть даже медленно и не с таким ожесточением, как под Прохоровкой.
При отвлекающей атаке местного значения через несколько дней после твоего ранения я был ранен. Снайпер! Когда я очнулся, иван уже прорвался. Я обработал свое ранение, то есть отрезал себе левую руку, так как она висела только на кусках кожи. Наложил жгут и повязку и, поскольку было, слава богу, темно, отправился по направлению к родине. Хотя русская артиллерия поставила заградительный огонь, мне удалось через него перебраться. Потом ампутация на главном перевязочном пункте. Лазарет в Харькове – самое плохое.
Напротив, неплохим было мое расставание с Харьковом. Целыми днями слышалась русская канонада. И ее раскаты приближались. И в один прекрасный день началось! Лазарет начали сворачивать. Пара санитарных автомобилей и грузовиков на несколько сотен тяжело раненных. Оставаться никто не хотел. Каждый, кто мог хотя бы ползти, хотел уехать. Лазарет превратился в сумасшедший дом. С костылями и без костылей, в гипсе и окровавленных бинтах, некоторые – в одних ночных рубахах, крича, ругаясь, умоляя, они ползли и ковыляли к выходу. Только бы выбраться оттуда!
Вот я и вышел, заковылял мимо переполненных санитарных машин и уже отъезжающих грузовиков. И просто пошел, не имея ни малейшего представления, куда, не зная направления и цели. Просто хотел уйти оттуда.
Блондин обработал свой нос верхней губой, затушил сигарету и, слегка улыбаясь, продолжал:
– Мимо проезжала колонна армейских грузовиков. Я махнул своим костылем. И случилось чудо. Один из грузовиков остановился! Рядом с водителем сидел – Эрнст, ты не поверишь! – очень высокопоставленный интендант! А колонна грузовиков вывозила остатки запасов армейских продовольственных складов Харькова! Мой интендант не только подвез меня, но и организовал мою отправку в тыловой госпиталь на территории рейха. И когда я, потяжелевший на несколько килограммов, залезал в санитарный поезд, у меня было столько бельевых мешков со жратвой, сколько у тебя в твои лучшие времена. Ты ошарашен?
Эрнст отрицательно покрутил головой:
– Чем?
– Да количеством наполненных мешков.
– Этим меня не ошарашишь. Немного удивлен и рад за тебя задним числом.
– В любом случае, пока я ехал в санитарном поезде, я часто думал о времени, которое мы провели в России. Бывало чертовски холодно, иногда – удушающе жарко, нечего пить, нечего есть и…
– Ты об этом думал?
– Думал, а что?
– Да, ты всегда был большим мыслителем. При любой подходящей, а чаще – неподходящей возможности ты думал и решал проблемы. Знаешь, Цыпленок, я бы не хотел иметь такую башку, как у тебя. Мне даже сегодня от нее плохо. Я на тебя смотрю прямо, как ты думал день и ночь, в одной руке колбаса, а в другой – бутерброд. – Он наморщил лоб. – Да-а, такого никогда не было. А между жратвой, выпивкой и куревом корчил рожу и полировал нос. Так?
Блондин не заметил замечания.
– А ранение? Я имею в виду проблему инвалидности?