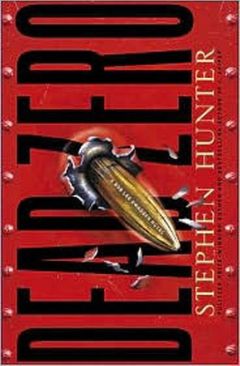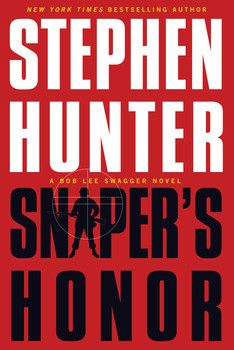– Потрясающая женщина, – сказал Боб. – Я могу открыть тебе секрет: она очень любит тебя.
– Наш медовый месяц. Скайлайн-драйв. Мой старый капитан дал мне аж шесть сотен долларов, чтобы я куда-нибудь уехал с нею, прежде чем придет приказ на меня. Выбил мне экстренный отпуск. На три дня. Он был великий парень. Я пытался вернуть ему деньги, но письмо вернулось назад с пометкой, что он, мол, оставил службу.
– Это паршиво. Похоже, что он был хорошим человеком.
– Его тоже достали.
– Так ведь все рано или поздно уходят со службы.
– Нет, я имею в виду совсем не то. Ему помог совершенно определенный парень, обладающий немалым влиянием, который вознамерился очистить мир. И мы попались под его метелку. Мне, несмотря ни на что, очень хотелось бы с ним повидаться. Коммандер Бонсон. Так вот вам, коммандер Бонсон, ваша маленькая победа. Вы в конце концов победили. Такие, как вы, всегда побеждают.
Вспышка. Зеленая, высоко. А затем по черному небосводу поплыли, снижаясь, еще два или три зеленых солнца.
– Приготовься, – скомандовал Боб.
Они услышали негромкое «понк-понк-понк»: это в нескольких сотнях метров от них в трубы опустили три 81-миллиметровые мины. В следующее мгновение они со слабым посвистыванием взлетели в воздух, достигли апогея и начали по крутой кривой падать на землю.
– Прячься! – крикнул Боб.
Оба вжались в грязь на дне мелкого окопа. Три мины упали метрах в пятидесяти от них и взорвались почти одновременно. Грохот сотряс воздух, а двоих морских пехотинцев подбросило над землей.
– Ах Христос!
Прошла минута.
Взлетели еще три ракеты, осыпая искрами всю округу. Они казались не просто зелеными, но даже какими-то влажными на вид.
Боб подумал, что в этом свете тоже вполне можно было бы целиться, но, черт возьми, что бы это дало сейчас? Он валялся мордой в грязи, ощущая этой самой мордой вещество, из которого состоял Вьетнам, обоняя его запахи и зная, что никогда больше не увидит ни одного рассвета.
«Понк-понк-понк».
Мины вылетели из труб, шепотом напевая свою песенку о смерти и конце всяких надежд, и начали опускаться вниз.
«О Иисус, – взмолился про себя Боб, – о дорогой Иисус, позволь мне жить, пожалуйста, позволь мне жить».
Мины взорвались примерно в тридцати метрах; тройное сотрясение, громкое, как адский гром. В плече у него заныло даже прежде, чем он, подброшенный силой взрыва, снова рухнул на землю Вьетнама. Резкий дым китайской взрывчатки щипал глаза и ноздри.
Боб знал, как это происходит. Где-нибудь сидит корректировщик, который диктует поправки. Пятьдесят назад пятьдесят вправо... И рано или поздно, как правило рано эта гадость плюхнется тебе прямо на голову.
О, это было очень, очень близко.
– Я был плохим сыном, – всхлипнул Донни. – Мне так жаль, что я был плохим сыном. О, умоляю, прости меня за то, что я был плохим сыном. Я не смог заставить себя навестить папу в больнице: у него был такой страшный вид. О, папа, я так раскаиваюсь...
– Ты был хорошим сыном, – шепотом прокричал Боб. – Твой папа все понял, так что не переживай из-за этого.
«Понк-понк-понк».
Боб думал о своем собственном отце. Ему тоже хотелось сейчас, чтобы тогда он был лучшим сыном. Он помнил, как отец тем последним вечером, уже в сумерках, отъезжал на своем полицейском автомобиле. Кто тогда мог знать, что это было в последний раз? Его мать при этом не присутствовала. Отец высунул руку в окно, помахал Бобу, а потом свернул налево, в сторону Блу-Ай, а оттуда он должен был поехать по 71-му федеральному шоссе на рандеву с Джимми Паем и своей и Джимми смертью, в поле, которое походило на любое другое поле в мире.
Взрывы снова подбросили их в окопчике; чуть ли не все тело Боба онемело, а потом больно заныло. Эти три залпа обозначили вилку. Теперь все. Они добрались до них. Теперь им оставалось лишь опустить в стволы минометов еще несколько снарядов, и, по правилам статистики, последует прямое попадание и все закончится. Огонь на поражение.
– Я так раскаиваюсь, – всхлипывал Донни.
Боб обнял его; он чувствовал его молодой животный страх, знал, что впереди не будет никакой славы, а только конец всему и прощение; и кто мог знать о том, что они жили, или умерли, или сражались здесь, на этом холме?
– Мне так жаль... – Донни уже почти рыдал.
– Ну-ну, – проговорил Боб.
Кто-то зажег на горизонте оранжевую вспышку. Она была очень большой, она висела там непостижимо долго, и лишь спустя гораздо больше времени, чем потребовалось бы нормальным, разумным людям, они поняли, что видят свой последний в жизни рассвет, что это вовсе не вспышка, а солнце.
А вместе с солнцем появились «фантомы».
«Фантомы» шли с востока низко и точно по оси долины, их двигатели гремели, с оглушительным шумом заглатывая воздух и, казалось, разрывая его в клочья. Они скидывали длинные трубы, которые, крутясь в воздухе, падали в долину и там распускались цветами, более оранжевыми, чем солнце, и более горячими, чем любое солнце, так как эти цветы порождала мощь тысяч килограммов сгущенного бензина.
– Боже! – визгливо закричал Боб. – Воздух! Воздух!
Самолеты отвернули, заложив почти вертикальные параллельные виражи, и тут же пошли на второй заход, заполняя долину очистительным пламенем.
А потом настала очередь боевых вертолетов.
«Кобры» походили не на змей, а на жужжащих насекомых, тонких и ловких в воздухе: они приближались с сухим треском роторов, их мини-пушки звенели, словно электропилы, расчленяющие древесный ствол, поливая долину множеством снарядов.
– Радио, – сказал Боб.
Донни повернулся спиной и сбросил PRC-77 на руки Бобу, а тот стремительным движением включил рацию и принялся искать частоту, на которой поддерживалась связь земли с воздухом.
– Восьмерка, включи восьмерку! – крикнул Донни, и Боб сразу же нашел ее, повернул и немедленно наткнулся на разыскивавших его людей.
– ..."Браво-четыре", «Сьерра-браво-четыре», ответьте, пожалуйста, ответьте немедленно. «Сьерра-Браво-четыре», где вы? Это «Янки-девятка-папа», «Янки-девятка-папа». Я армейский авиакорректировщик в дальнем конце долины; мне немедленно нужна ваша позиция.
– "Янки-девятка-папа", это «Сьерра-браво-четыре». Черт возьми, парни, мы вас не видим!
– "Сьерра-браво-четыре", где вы? Прием.
– Я нахожусь на холме приблизительно в двух кликах[40] от «Аризоны» на восточной стороне долины. Э-э... Я не знаю его обозначения, у меня нет карты, я...
– Дым, «Сьерра-браво-четыре», пусти дым.
– "Янки-девятка-папа", есть, пускаю дым.
Боб сорвал с пояса дымовую гранату, выдернул чеку и метнул гранату недалеко от себя. Граната со злобным шипением завертелась на месте и извергла из себя клубы густого желтого тумана, которые слились в высокий клочковатый столб, четко вырисовавшийся на фоне рассвета.
– "Сьерра-браво-четыре", вижу простым глазом ваш желтый дым.
– "Янки-девятка-папа", все верно. Кстати, у меня в огороде полным-полно плохих парней. Мне немедленно, повторяю, немедленно нужна помощь. «Янки-девятка-папа», не могли бы вы прополоть огородик для меня? Прием.
– Понял вас, «Сьерра-браво», понял вас. Продержитесь еще немного, а я пошлю птичек прямо к вам. Сидите около своего дыма. Связь кончаю.
Уже через несколько секунд «кобры» свернули к невысокому холму, на котором укрылись Боб и Донни. Мини-пушки выли, ракеты взвизгивали, а потом боевые вертолеты все разом отлетели далеко в сторону, и прямо перед Бобом и Донни очень низко и быстро промелькнуло звено «фантомов»; ярким мечущимся пламенем расцвел напалм. Воздух наполнился запахом бензина.
Очень скоро все стихло.
– "Сьерра-браво-четыре", это «Янки-зулу-девятнадцать». Я иду за вами.
Это была птичка, «хью», выкрашенная в армейский защитный цвет; она молотила роторами с такой яростью, словно намеревалась изрубить на части самого дьявола, и она устремилась к ним, поднимая над землей водяную пыль и пригибая траву. Боб хлопнул Донни по загривку и подтолкнул к «птице»; они пробежали метров семь, отделявших их от открытого люка, а там их подхватило несколько рук, подтянувших их в кабину, прочь с Дурной Земли. Вертолет резко пошел вверх, навстречу восходящему солнцу.
– Эй, – крикнул Донни, перекрывая рев винтов, – а ведь дождь-то перестал.
Старшего полковника Хуу Ко начали критиковать еще во время его пребывания в госпитале. Критика была беспощадной. Она была непрерывной. Она была жестокой. Каждый день в десять часов его отвозили на кресле-каталке в зал, где заседал комитет. Его страшно обгоревшая левая рука, замотанная бинтами, висела на перевязи, он чувствовал себя сонным и отупевшим от болеутоляющих лекарств, а в голове звенели революционные афоризмы, которыми его беспрестанно потчевали медсестры и врачи.