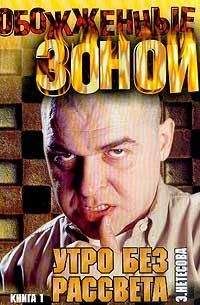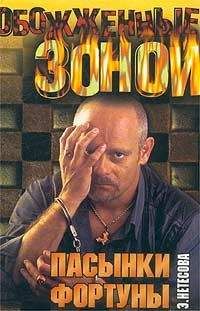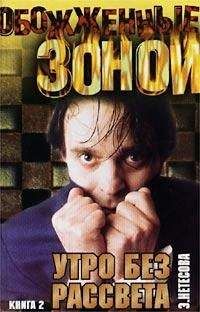Старик помолчал, оглядел притихших доярок. И, пожевав ус, добавил:
— Только в жизни иногда ворон голубем прикидывается. Так-то, девоньки!
— А ты про любовь расскажи, дед! — попросила сторожа Ольга.
— А на что? Чужая любовь сердце не греет. Сказка, как облачко. Была и нету ее. Свою любовь заиметь надо, — улыбнулся старик.
Ольга покраснела. Была любовь. Да облачком ушла. А вот воспоминания, как сказка остались. Но что с них?
Ночью она одна осталась у костра. Долго ворочала обгоревшие головешки. Плакала. Но ее голубь не прилетел к ней. Не выросли и цветы от ее слез. Лишь Трубочист, посидев с нею немного у догоравшего костра, пошел в будку.
Отгорел костер. Отлюбила. Пеплу не вспыхнуть былым жаром. Самой тепла не хватит. Другого и тем более не согреть. Жизнь, как скачка, оборванная на самом страшном. Что впереди?
Утро занялось серое. Туманное. К обеду пошел нудный, моросящий дождь. Он насквозь промочил доярок. Володька тоже продрог. Но надо было помочь пастухам. И поселенец, открыв загон, выгонял коров побыстрее. Хотелось поскорее вернуться в будку. Обогреться.
Но что это? Поселенец оглянулся. Свирепый бык, черный как сатана, несся по загону, расшвыривая на пути бидоны, подойники. Кто его выпустил раньше времени? Ведь бабы еще не все закончили дойку и теперь, испуганные, убегают из загона. Подальше от Буяна. А он угнув громадную башку, нацеливает рога то на одну, то на другую. Носится за доярками угорело. Но вот приметил поселенца. Этого он давно невзлюбил, И несся на Володьку, сломя голову. Трубочист подскочил. Метнулся в сторону. Бык проскочил. Но тут же развернулся. Глаза кровью налились. Злобой.
Бледная, улыбающаяся Торшиха стояла, ухмыляясь. Это она незаметно для всех выпустила Буяна в общий загон. Знала о ненависти быка к поселенцу. Замечала, как свирепел Буян, завидев Володьку. И решила отомстить. За насмешки, какие стерпела, за равнодушие, за обманутое ожидание, за взгляды его, подаренные другим. И подкараулила свой час.
«Не мне, так и никому», — решила Торшиха.
Володька махнул через забор. Бык разбежался. Повалил забор и помчался за поселенцем. Тот зайцем стал петлять. Напрасно орали пастухи. Напрасно щелкали длинными кнутами. Бык не видел и не слышал их. Он видел одного. И мчался, потеряв остальных из виду.
— Беги в реку!
— Лезь на дерево.
— Прыгай в ров! — кричали доярки поселенцу. Но было поздно. Буян поддел Трубочиста на рога. Перекинул через себя. И, копнув землю, развернулся. Угнул голову и снова рванулся на распластавшегося мужика. Но… Ох и вовремя успел сторож. Выстрелил. Буян замер в прыжке. Громадной глыбой рухнул на землю. И больше не шевельнулся.
— Вставай, Володька! Убил дед быка!
— Пошли.
Поселенец встал трудно. Оглядел доярок помутневшими глазами. И вдруг вспомнил Торшиху. Она была там. Около Буяна. Больше никого. И сейчас ее нет. Чует кошка шкоду. И вспомнил все. Понял. И, повернувшись к сторожу, сказал:
— Не быка, Торшиху убить надо было. Она его выпустила.
Валька не поняла с чего это все бабы вдруг бегут к ней? Что случилось? Молчат. Она оторопело уставилась на них. Неужели видели? И не успела сама себе ответить, как кулаки баб камнями на нее опустились. Бабы били ее не щадя. Даже собственных рук не жалели. Сначала она орала. Потом не стало сил. Никто не захотел выручить. Чьи- то пальцы вцепились в волосы. Рвут их с кожей. Кто-то сапогом вонючим в зубы въехал. А вот— в спину. Удары один больней другого. От них невозможно защититься, нельзя убежать. И баба, свернувшись в клубок, старалась защитить лицо, грудь, живот. Черные искры мелькали перед глазами. Старик-сторож подскочил и оттащил разъяренных доярок: какую оплеухой, какую — пинком, от скорчившейся Торшихи.
— Сдурели, стервы! Иль жить надоело! В тюрьму захотели из-за говна? Не смейте трогать! Не прикасайтесь! Из ума повыжили!
Бабы все еще кипели. Но слова старика, словно отрезвили.
— Выгнать ее из будки!
— Да что там? Из доярок!
— В шею ее, суку!
— Где ее тряпки! Кидай их вон!
— Чуть человека не угробила!
— Заглохните! — ворвался в будку поселенец. Бабы вмиг утихли. Сникли, не понимая, за что на них разозлился Володька. — Я в лагере был! Кто из вас не знает что это такое, могу рассказать! Ни одна не обрадуется возможности там побывать.
— А что? Молчать надо?
— Ждать, что эта блядь еще утворит!
— Радуйтесь ее шутке!
— Иначе можно! Без рук! — оборвал доярок поселенец.
— Как?
— Похоронить ее молчанием. Не видеть. Не слышать. Не замечать. Сама не выдержит. Сбежит. Но делать так надо всем. До единого!
— Она с коровами говорит.
— Ну и пусть.
— Но из будки выкинуть надо!
— Нет! Пусть живет. Но одна. Молчанием накажете. Это на отпетых сволочей и то действует. По себе знаю, проговорился Трубочист.
— Между прочим, тяжелее всего придется тебе. Ты первый не выдержишь, — пыталась поддеть поселенца Татьяна.
— Это почему? — удивился Володька.
— Мы то ей не нужны. А вот ты…
— Будь спокойна! Меня она никогда не интересовала, как бы она не легла, — напомнил Таньке ее позу на реке поселенец.
— А ну тебя, — отмахнулась она, покраснев.
Доярки с этого дня стали больше доверять поселенцу. И хотя знали, кто он и за что его сюда прислали, никогда не напоминали об этом Володьке. Не проверяли его. Привыкли к поселенцу все.
В самом Соболево на Трубочиста смотрели как на неизбежность. Куда как не в это село ссылать всякое отребье! Но в селе Вовка бывал не часто. А потому отношение к нему жителей села— не волновало его и не трогало. Лишь прошлое и ближнее будущее терзали его днем и ночью. Они преследовали его черной тенью и не отпускали ни на шаг.
Деньги, зашитые в телогрейке, вначале радовали, грели, а потом стали жечь. Ведь деньги, данные Клещом, надо было отработать. Иначе ему самому надо проститься с жизнью. Из рук Клеща никто еще не ускользал. Никто. Тем более — виноватый перед ним.
Виноватый. Но ведь он — Трубочист ни в чем не виноват. Ни в чем. Взял деньги! Ну и что? Он мог купить другого! Но тот бы выполнил и отработал взятое. А Вовка— нет! Хотя, а что он мог сделать? Ведь он не был на свободе. Он сидел в лагере, а теперь — на поселении! Чем же тут можно помочь Клещу? А значит— не надо было соглашаться! Не надо было браться. Вот этим и виноват. Виноват в том, что позарился на деньги! Пожадничал! Не смог отказаться. Вид денег сводил его с ума! Он не мог относиться к ним спокойно. Он не мог уснуть, если перед сном не ощупывал подклад и каждое кольцо и деньги, деньги! Они радовали. Но только временно и временами.
Все чаще в ночи он видел кошмары. Черные, леденящие. То он видел, что гонится за Скальпом. По черным закоулкам с ножом. Вот он. Еще прыжок! Нож входит в спину Скальпа легко, как в масло. На руки льется кровь. Скальп кричит, вон уже и шаги. Кто-то бежит. Вовка пытается удрать. Удрать скорее, но чьи-то руки хватают его и волокут к Скальпу, а тот лежит, на него пальцем указывает. И снова на руках Трубочиста эти проклятые наручники. Они впились и режут не только руки, а и горло, душу.
А все деньги! Деньги! И снова он попадет в лагерь. На этот жуткий Север и больше не увидит свободу. Ему не выйти больше из лагеря. Там еще есть те, кто знают о деньгах Клеща. А раз Вовку взяли сразу, то деньги он не успел истратить. А значит его можно тряхнуть. Хотя, эти деньги могли взять при обыске.
Да, могли, могли! Но и он мог не убивать Скальпа! Не убивать! А просто скрыться! Скрыться подальше от всех. От кентов! От Клеща! От самого себя! Да! Прежде всего от самого себя!
Володька кричит во сне. Ему так не хочется снова в лагерь.
— Пустите! Пустите! — кричит он. Но руки нащупывают деньги в телогрейке. Рукам становится тепло. Очень тепло. Даже жарко. Вот они! Все на месте. В них его жизнь. Но чего она стоит— зашитая в телогрейку?
Поселенец хватает полу телогрейки, не хочет выпускать. Вон он видит, как его убивают кенты. И вот уже его хоронят. Кто-то ложками Шопена наигрывает, а вон «сявка» по животу, как по барабану стучит. А этот «сука» — языком под контрабас работает. Сзади гроба мать идет. А она зачем? Как попала сюда? И почему он их видит! Всех! Он хочет встать из гроба, но не может. Телогрейка душит его. Не пускает. Это она его убила, она довела его до могилы. И теперь спеленала, связала намертво. Не выпускает. Ему не вырваться из нее никогда.
Деньги! Он подшивает в подклад каждую деньгу. Трояк или пятерку. Каждый свободный червонец. Он отказывает себе во всем. Живет на хлебе и молоке. Все для денег! С ними ему спокойнее! Зато потом, когда выйдет с поселения, не станет трястись над каждой копейкой. Заживет на широкую ногу. Купит шикарный костюм. Будет есть мясо! Каждый день! Да, но и это опасно! Надо затаиться. Уехать подальше. Но куда?
— Володька! Да проснись ты! Ишь дрыхнет, бес! Вставай! — кричат бабы. И он снова вскакивает, бежит в загон. Пора работать! Снова надо носить воду, ловить этих проклятых коров. Привязывать, отвязывать, грузить бидоны, потом чистить загон. И снова помогать, помогать! Да будет ли этому конец?