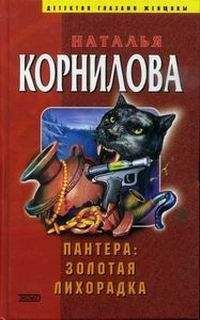Я подняла брови, услышав такое вавилонское смешение жизненных поприщ одного человека. Явился Ракушкин. Молча разлил всем вина, меня даже не спросил, буду ли, но на лице его при этом сияла такая любезная улыбка, что отказаться недостало моральных сил.
Залив бензобаки, пара с киевского истфака переглянулась, и Коля Кудрявцев продолжал:
— Значит, о Родионе. Я говорил, что его перевели с третьего курса исторического факультета. Тогда мы не знали, в чем дело. Потом выяснилось, что Родиона, как и всех особо смышленых студентов, просто-напросто завербовал КГБ. Ну да… И ничего тут постыдного нет. Попробовал бы кто отказаться. Сразу и из комсомола, и автоматически из института вылетели бы. Просто не всем предлагали стать осведомителем. А Родиону предложили. И он, я так полагаю, довольно высоко вскарабкался, да и до сих пор оземь не шмякнулся. Если уж создал частное детективное агентство, которое хорошей репутацией в Москве пользуется.
— Правда, — кивнула я.
— В этот раз я сразу заподозрил, что Родион не просто так приехал. Да он вообще ничего не делает просто так. У него, как в рассказах Чехова, везде есть какие-то свои подводные течения, в которые не абы кто может заплыть. Вот так. Я думаю, это вам известно не хуже меня.
— Да.
— Так вот, в первый день он вел себя довольно раскованно и даже выпил неплохо. С Юлей Ширшовой даже два раза поцеловался, они много лет назад чуть было не поженились.
«Вот какой у меня Родион, — подумала я, — а я его тихоней считала. А он и с Аней, и с Юлей, а где-то там, в Москве, Валя одна».
— На следующий же день, когда мы пошли на раскопки, он не столько работал, сколько озирался, а потом куда-то пропал. Правда, не с концами, под вечер вернулся. Говорил, что ходил купаться. А что купаться, если до речки десять минут, до моря — пятнадцать, а он часа четыре ходил. Плескался, что ли, как тюлень? Потом выяснилось, что он в Нарецке был. Его видели. Стоял с каким-то типом, лысым и блестящим, как шар бильярдный. В укромном месте были, их случайно заметили.
Его, Родиона то есть, Костя Гранин засек, он как раз в город за выпивкой мотался, потому что ее… она… в общем, машина с цистерной местного крепляка не приехала отчего-то. А без крепляка ни ужина, ни обеда. Не водку же на такой жаре, в самом деле, дуть.
— Да уж известно, — деловито высказался с дивана седовласый троллейбусник Саша, кандидат исторических наук, пишущий докторскую. — Водку в жару пить аполитично.
— В тот же день, когда он исчез, вообще все странно было. Сначала пропал мешок со всеми вещами Онуфрия Штыка. Штык, конечно, недотепа кошмарный и пропойца, все-таки журналист, но не до такой же степени он… журналист. Онуфрий-то.
— Его так и зовут — Онуфрий? — осведомилась я.
— Так и зовут, — даже подпрыгнул на кресле Коля Кудрявцев, и я проглотила подступивший смех. Сразу вспомнился отпрыск Родиона — Потап, которому еще предстояло пожать ниву анкетных и бытовых мук и неудобств, связанных со своим чудовищным, на мой взгляд, именем.
— У Штыка вообще постоянно что-то пропадает, — сказал Саша Ракушкин. — Только, знаете ли, не так, чтобы сразу полный комплект вещей. В основном он терял фляжки. Вещь в нашем археологическом обиходе не менее необходимая, чем саперная лопатка. Ну еще — термос. В него вино охлажденное наливать — в самый раз.
А вечером мы в таз вино наливаем и через край пьем. Так вот, Штык терял фляжки. Стрельнет у кого-нибудь флягу с топливом, хватит до дна, а потом заснет — и поминай как звали. Флягу, конечно. Штык-то всякий раз находился, да еще похмелить просил. Лучше бы вместо Родиона мы Штыка потеряли, — серьезно добродушно заключил Ракушкин и стал оглаживать свою косичку.
Я слушала, не понимая, какое отношение все это, включая Онуфрия, имеет к Родиону и его таинственному исчезновению. В голову уже лезли всяческие предположения относительно того, что я зря приехала за тридевять земель, быть может, все это шутка, инспирированная археологическим экстазом и многодневным пьянством. И вот сейчас приедем в этот героический… то есть, тьфу ты!., археологический лагерь, и выйдет мне навстречу расхристанный Родион, который в самом деле не помнит, где он был вчера.
Ох, где был я вчера, не пойму, хоть убей,
Только помню, что стены с обоями.
Помню, Клавка была и подруга при ей,
Целовался на кухне с обеими, -
как пел Владимир Семенович. Стоит только заменить песенных Клавку и ее подругу на Юлю Ширшову и Аню Кудрявцеву, и получится полное соответствие.
— Ну, ты нас в сторону увел, Саша, — сказал Кудрявцев с ноткой недовольства. — И вообще, что тут отираться, нужно ехать в лагерь. Вино допили? Вот и отлично. А по пути расскажем все остальное.
По пути я услышала много слов, но процент тех, что говорились по существу, был чрезвычайно невысок. Судя по всему, Саша Ракушкин и Коля Кудрявцев пользовались вольностями своей нынешней жизни в полном объеме. Иногда даже сверх оного. Объем вольностей был прямо пропорционален литрам выпитых алкогольсодержащих жидкостей и обратно пропорционален степени конструктивности беседы. Особенно усердствовал троллейбусный кандидат наук, который приехал на раскопки без супруги, забытой в славном городе Энгельсе. Колю-то Кудрявцева его благоверная ждала в лагере.
Лагерь так называемых археологов оказался в живописнейшем месте, в котловине между двумя пологими холмами. Неподалеку влекла свои воды река, а совсем-совсем близко, судя по рокоту, было и море. Ракушкин, который к тому времени выглядел благодушнейшим из смертных, сделал широкий жест рукой, предположительно открывающий широкую панораму с холма, на который взлетала грунтовая дорога, и сказал:
— Огарки эллинской цивилизации. Но здесь, признаться, так сказать, лежит мощнейший культурный пласт, который мы по мере возможности стараемся осветить. Правда, время от времени мера меряется литрами. И это не всегда есть gut.
— Это правда, — авторитетно подтвердил Кудрявцев, энергично кивая с такой амплитудой, что я побоялась за сохранность его шеи. Впрочем, при ближайшем рассмотрении она оказалась красной и могучей, так что физические упражнения были ей даже на пользу.
В расположении лагеря горели два костра. Вокруг источников света стояли четыре палатки, а пляшущие языки пламени являли фантастическую картину переплетающихся теней, полутонов, перетеканий одних колеблющихся контуров в другие. Контуры принадлежали десятку или более того людей, никто из коих не сидел спокойно на месте. Все сновали, суетились, нарезали круги между палатками; в близлежащих зарослях мелькали фонари, по растущему неподалеку мощному дереву карабкался некто с фонариком в зубах, очевидно, относящийся к той же веселой компании.
— Вот здесь мы и отдыхаем, — подытожил Коля Кудрявцев, переключая скорости, — а это, как легко догадаться, наши товарищи. Что-то опять они разбегались.
— Небось снова Штык потерялся, — предположил Ракушкин, вытягивая губы трубочкой. — Нажрался и закатился в раскоп. Ищи его теперь.
«И все от пьянства, — подумала я. — И кто бы мог заподозрить моего босса в том, что он может вписаться в подобную куда как веселую и разношерстную компанию? Коньячку он, конечно, всегда любил выпить, но чтобы так…»
Ракушкин, казалось, прочитал мои мысли, потому что повернулся и назидательно произнес:
— Вы, Маша, ничего такого не думайте. Между прочим, почтенная Мария, вы не правы, если думаете, что все пороки общества проистекают от пьянства. Тем более что мы вас вызвали по пьяной лавочке. Нет уж! Пьянство — оно, конечно, есть откровенное социальное зло. Но буде вам известно, был такой греческий мудрец Сократ.
— Известно, — сдержанно сказала я.
— Так вот, Сократ утверждал, что пьянство вовсе не формирует в человеке пороки, нет! Оно их просто выявляет. И правильно! Если человек подлец и себе на уме, то по-трезвому он может скрывать от общества свою сердцевину. А уж ежели он выпьет чего-нибудь приятного, вроде спирта медицинского ректификованного, то уж тут он никак не удержится от того, чтобы не открыть свою истинную личину. Понимаете?
— Она-то понимает, — отозвался Кудрявцев, останавливая машину, — а вот ты, Саша, кажется, не понимаешь, что мы уже приехали.
— Конечно, конечно! — встрепенулся тот и, не открывая дверцы, полез в окно. Человек он был немаленький, так что застрял немедленно, да в таком положении и захрапел.
Коля Кудрявцев растерянно на него посмотрел.
— Нет, оно, конечно, ничего, — сказал он, ни к кому не обращаясь и, по всей видимости, успокаивая самого себя. — Только мне потом опять машину мыть придется.
Саша Ракушкин, вывалившись из окна до половины, мирно почивал вниз головой. Полз храп. Лоб кандидата исторических наук и водителя троллейбуса по совместительству почти уткнулся в траву, прохладную, темную, пронизанную тонкими ароматами накатывающейся украинской ночи…