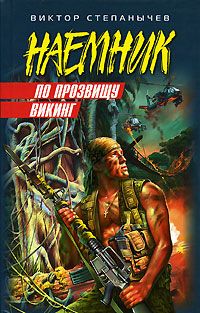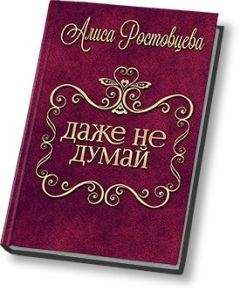— Ушли от Унтера, — радостно сообщила Валентина. — Немного бы задержались под лестницей — и повязали бы они нас.
— А что это за «унтер» такой? — поинтересовался Петр.
— Это сержант Женька Волобуев из транспортной милиции, что вокзал охраняет. Нас раза четыре уже вязал, гадина, — доложила Валентина. — Мстит мне, собака. Я с ним в школе училась годом младше. Он еще до армии за мной пытался ухлестывать. А когда вернулся, я уже замужем была. Не за Колей, конечно, за другим. Вот он и достает меня.
У Петра были сомнения в крайней мстительности Жени Волобуева по прозвищу Унтер. Скорее всего, сержант всего лишь бдил порядок на своем участке и совсем не помышлял об интифаде по отношению к бывшей подружке, тем паче в нынешнем ее положении. Но он сочувственно покачал головой. Мол, вона как повернулось дело, ах, Женька, ах, змей семибатюшный! Ночлег-то надо отрабатывать.
— А что мы остановились? — вдруг забеспокоился Петр. — Смотрите, они из-за угла вышли. Заметут…
— Здесь Унтер нас брать не будет. Магазин и площадь — территория транспортников, а эта сторона уже к муниципалам относится, — авторитетно сообщил Кока и взял под козырек, которого не было, отдавая честь стоящим на противоположном тротуаре патрульным. — Здравия желаю, господа милиционеры! Увы, наше свидание сегодня сорвалось. Адью, мсье ажаны!
Сержант Волобуев с грозной кличкой Унтер неодобрительно качнул головой. Его взгляд, мельком скользнув по Коке и Валентине, остановился на Петре. Ну что же, вот и состоялось знакомство, хотя и на расстоянии. Петра — с представителем местной власти, власти же — с новым лицом, отметившимся на ее территории.
Квартира, куда привели Петра его новые знакомые, находилась неподалеку от вокзала, всего в квартале. Серая панельная пятиэтажка встретила их неодобрительными взглядами троицы старушек, сидевших у подъезда. Узкая лестница с протершимися до арматуры ступенями привела на третий этаж к облупленной двери с множеством фанерных заплат на месте выломанных замков. Один все же был на месте и работал. Изнутри, правда, он ключ не принимал, и дверь запиралась на засов.
Сама двухкомнатная малометражка была очень похожа на своих хозяев: не грязная, но захламленная, какая-то неуютная и потрепанная. Престарелая мебель лезла ободами пружин из дивана и потертых кресел; перекосившиеся дверки горки держались только на верхних петлях и были готовы оторваться в любую секунду. По подоконникам лежало всяческое барахло, провода, какие-то платы, паяльники, книжки. Кухня была не лучше немытой посудой в раковине с обитой эмалью, крошками на застеленном изрезанной клеенкой столе и грудой пластиковых бутылок в углу за плитой.
По дороге Петр купил в ларьке станок для бритья с набором одноразовых лезвий и банку тушенки. Надо было привести себя в порядок и подкрепиться. Он не был уверен, что Кока с подружкой имеют дома продовольственные запасы и тем более собираются угощать своего гостя. Однако ужинать они все же собирались. В ванной стояло полмешка картошки, к которой тушенка оказалась как нельзя кстати.
Добив по кругу первую бутылку «Анапы» в таких же неравных пропорциях, как и под мостом, все занялись своими делами. Валентина отправилась чистить картошку. Петр зашел в ванную, чтобы помыться с дороги и соскоблить с физиономии надоевшую уже щетину. Осоловевший же Кока прилег после «трудов праведных» на диван.
После водных процедур Петр вернулся в комнату и присел в кресло. Неожиданно он почувствовал прикосновение мягкой лапки к затылку. Сегодня это было, на удивление, только второе ее посещение. Позавчера и вчера она четырежды настигала его. Петр вытащил из кармана облатку анальгина, выдавил две штуки, стандартную дозу, кинул в рот, разжевал и откинулся головой на спинку кресла. Он не стал запивать лекарство. Почему-то последние дни ему стало казаться, что эта горечь во рту ускоряет действие анальгина, хотя, вероятно, она просто отвлекала на себя часть боли.
Вот и сейчас боль накатилась мощной волной, сначала сдавив стальной хваткой шею, постепенно наползая на затылок, а потом и виски. Он практически ничего не слышал и не ощущал. Открывая беззвучно рот и размахивая руками, Кока, не заметив потери слушателя, все извергал поучения воинствующего интеллигента. Держа в руках дымящуюся кастрюлю, в дверях кухни появилась Валентина. Радостное, в предвкушении очередной порции винища, лицо одного, все еще хмурое — другой, разлитая в щербатые чашки «Анапа», обращение к нему, тревожное переглядывание…
Словно бы он смотрел немое кино с заезженной донельзя пленки. Будто через поцарапанную оптику доходили до Петра отдельные кадры, жесты актеров, которые никак не связывались воедино и не воспринимались воспаленным мозгом. На что хватило его, так только слабо махнуть рукой, успокаивая хозяев.
Но и боли приходит конец. Она потихоньку стала отпускать, медленно освобождая сознание. Наконец вернулись слух и речь.
Первое, что он услышал, были слова Валентины:
— …говорю, точно припадочный. Он нас ночью придушит.
— Не волнуйтесь, не собираюсь я вас душить, — еще слабым голосом попытался успокоить ее Петр. — У меня просто периодически бывают очень сильные головные боли.
— А я откуда знаю, периодические они или не периодические? — зашипела Валентина. — Не придушишь, так башку проломишь. Явился на нашу голову инвалид хренов!
— Да заткнись ты, дура! — решительно вмешался Кока. — Человеку и без твоего занудства плохо. То он у тебя мент, то Джек-Потрошитель — достала уже! У нас есть что выпить, картошечка с тушенкой поспела, а мы мозги друг другу парим. И тост как раз по теме созрел: «За здоровье!» Не куражу ради употребляем ее, проклятую, а лишь здоровья для.
Кока с Валентиной дружно выпили, Петр отказался, сославшись на немочь. Его особо не принуждали, приняв за основу тезис «самим больше достанется». Закусили картошкой, перемешанной с тушенкой, которая практически растворилась в общей массе. Остался только запах, причем более всего пахло лавровым листом, да изредка на зуб попадали совсем уж сиротские волоконца мяса.
Хозяева выпили еще по полчашки, усердно доскребли в кастрюле картошку и перешли к десерту — остаткам все той же «Анапы», употребляя ее малыми глоточками и без закуски.
Валентина, быстренько допив свою долю, ушла на кухню греметь посудой, бурча что-то себе под нос. Кока совсем поплыл. Лицо его сделалось многозначительным, и говорить он стал больше намеками и загадками, которые сводились к одному: скоро все изменится, он станет донельзя богатым, бросит пить, ну если не совсем, то хотя бы эту «червивку». Дальше его фантазии не шли. Свое резкое возвышение и обогащение Кока, по не совсем скромным собственным оценкам, связывал с личным интеллектом, а если точнее — гениальностью. Он пару раз, потупя глазки, так и выдал:
— Петя, я гений. Меня можно сравнить с Эйнштейном, хотя нет, пожалуй, с Эдисоном. Впереди ждет признание и слава…
Добыв с захламленного подоконника серую затертую картонную папку с завязками и надписью «Дело», он начал совать под нос гостю какие-то электронные схемы, мудреные чертежи и расчеты. Кока бил себя в грудь и воинственно кричал, что теперь-то они, бездари, поймут, кто он такой, Николай Крайнов, будут локти кусать от зависти и бессилия, ан поздно, голубчики, поезд ушел! И совсем не в конструкции аппарата дело, хотя его гений и опередил всех на двадцать, нет — на тридцать лет. Главное — методика, фундаментальные исследования… Нобелевская премия, считай, в кармане…
Валентина шипела и обрывала его, но Кока был неумолим — он Эдисон и никак иначе, и снова показывал Петру чертеж очень странного аппарата, похожего на космическую станцию, только без крыльев — солнечных батарей. Чтобы утихомирить гения, Петр, скрепя сердце выдал хозяйке денег еще на пузырек «Анапы», благо дежурный ларек имелся в двух шагах от дома. В результате, бессовестно выжрав еще полбутылки вина, «Эдисон» наконец утихомирился и заснул.
За окнами стало совсем темно. Петр помог злобно бурчащей под нос Валентине перетащить хозяина в соседнюю комнату и уложить на скрипучую кровать с никелированными шишечками. На улицу гостя не гнали, что ему и требовалось. Не раздеваясь, Петр улегся на диван, повозился, устраиваясь между пружинами, и крепко заснул. День прожит.
Темнота плавала бесформенными клубами, противно касаясь лица и рук мокрыми рваными лохмотьями. Иссиня-черное облако мазнуло лапой по щеке, едва не вызвав приступ рвоты, а другое, чуть посерее и злее, завилось вокруг ног, сделав их совсем недвижными. А тот пляшущий в нетерпении клубок, мягко крадущийся к нему, совсем уже светлый, почти прозрачный, неожиданно стал распадаться на мелкие перистые клочья. Казалось, вот сейчас мрак расступится, и в глаза брызнет яркий поток сверкающих солнечных искр. Он хотел помочь, рванувшись навстречу, хотел раздвинуть, разогнать ладонями темноту, но руки не повиновались, сделавшись неподъемными и чужими. Ни единый проблеск света не прорвался сквозь мерзость тьмы. Только чье-то несвязное бормотание сумело пробить вязкий мрак — жалобное и негромкое…