— Тебе, тебе…
— Так. То есть, сучонок, это я, значит…
— Значит.
— Странно… — Я и в самом деле недоумевал. — Пришел человек в казарму, расстелил простыни, решил поспать, вдруг откуда ни возьмись является какая-то мразь, заваливается прямо в сапогах на кровать, выражается невежливо… А почему? Видимо, не учили мразь приличным манерам. И уже поздно учить. Но проучить никогда не поздно, думаю.
Взгляда от своей левой кисти я по-прежнему не отрывал, в то время как рукой правой, совершил движение в сторону физиономии ефрейтора, плотно зажав его переносицу суставами указательного и среднего пальцев.
— Ссс-волочь… — прохрипел Харитонов, безуспешно пытаясь от своего носа мою руку оторвать и испытывая — это я знал наверняка — пронзительную боль и страх от того, что носовая кость вот-вот треснет. — Пусс-ти…
Скрипнули пружины нескольких коек. Наматывая ремни на пальцы, ко мне неторопливо двинулись несколько рослых фигур в белом солдатском исподнем, что, в общем-то, меня не смутило. Ситуация была ординарной, многократно отработанной, и развитию ее способен был помешать только какой-либо псих, пыл которого я был готов остудить ударом ноги либо в пах, либо с растяжкой в подбородок, что смотрится со стороны довольно-таки эффектно и резко уровень агрессивности нападающих снижает.
— Всем стоять! — мельком обернувшись на белые пятна нательных рубах, процедил я. — Иначе сломаю ему нос. Ну!
Фигуры в нерешительности замерли, поигрывая латунными бляхами.
— Пусс-ти… — шипел, пуская слюну, Харитонов.
— Отпущу, — сказал я. — Но сначала, давай-ка, попросим прощения.
— Аааа…
— Видишь, первую букву алфавита мы изучили. Будем разучивать другие буквы или уже знаешь, как построить фразу?
Я не изгалялся над ефрейтором, нет. Просто знал, что в настоящий момент чувство активной солидарности, владеющее его соратниками, постепенно подменяется всевозрастающим любопытством пассивных наблюдателей.
— Извиняюсь, блядь…
— Чего?..
— Аааа… Я нечаянно, че ты, в натуре, бэ-э-э… Извиняюсь, сказал же!
— И обещай, что больше такого не повторится.
— Не повторится, отпусти, б… больше… не буду, проехали…
— Ну вот. — Я разжал пальцы. — Конфликт, надеюсь, исчерпан.
Харитонов стремительно отпрянул в сторону, вытирая невольные слезы и осторожно ощупывая вспухший нос.
— Крутой, да? — произнес он сквозь затравленную одышку. — Да мы тут таких крутых…
— Да, сержант, — произнесла одна из рослых фигур в исподнем неодобрительно. — Широкий ты взял шаг, как бы портки не треснули, гляди…
— А вам по нраву те, кто семенить любит? Иль шестерить?
Ответа не последовало.
«Старички» в молчании разбрелись по койкам.
Первый раунд, похоже, остался за мной. Что же касается второго, я не загадывал — посмотрим.
Дверь, ведущая в коридор, затворилась, и казарма погрузилась в темень, где малиновыми точками светили сигареты «дедов», шепотом обсуждавших произошедшую стычку.
Смежив глаза, я еще долго прислушивался к их невнятному шушуканью, из которого различилась только одна отчетливая фраза, видимо, конкретно моему слуху и предназначенная:
— Думает, козел херов, лычки его спасут…
Я долго и напрасно пытался уснуть. Меня точила досада. Не мог я назвать удачным свое начало службы в конвойной роте номер шестнадцать, не мог. Действительно, а стоило ли так резко охолаживать этого мерзопакостного ефрейтора? Воспринял бы все его провокационные происки с дипломатичным юморком, «прописался» бы, выставив «старичью» литровку-другую…
Нет ведь! Характер надо проявить! А что за цена-то твоему характеру, а? Нулевая цена! А может — и даже не может, наверняка! — составляет этакая цена величину отрицательную, а потому не характер у тебя, Толя Подкопаев, а просто-таки однозначное «попадалово», и лучшее тому доказательство — твое здешнее пребывание в глубине ростовских степей, сержант, в этой вот роте, чью суть, вероятно, ефрейтор Харитонов являет собою типично, естественно и — закономерно.
Не шел сон, не шел…
Зато одолевали воспоминания. Воспоминания о событиях, кажется, и недавних, но видевшихся теперь, из этого казарменного настоящего, будто бы сном о какой-то иной, потусторонней реальности, если и существующей, то недостижимо далеко и условно, как бы на иной планете…
В армию довелось угодить мне двадцати шести лет от роду — то есть в том возрасте, когда большинство военнообязанных сверстников навыки по хождению строевым шагом уже решительно утратило, за исключением разве кадровых вояк, но те обзавелись к настоящему времени погонами отнюдь не сержантскими.
Пополнить же собою вооруженные ряды защитников отечества случилось мне по причинам свойства непредсказуемого и даже, можно сказать, аварийного.
Если обратиться к истокам, то родился я в семье относительно благополучной: папа работал в советском торгпредстве в США, мама — по образованию переводчик с английского и немецкого — всю жизнь обреталась при нем, трудясь то референтом, то консультантом в том же торгпредстве.
И выпало мне, таким образом, появиться на свет и вырасти в штате Мэриленд, в городе Вашингтоне, где до двенадцати отроческих лет учился я в самой что ни на есть настоящей американской муниципальной школе, среди тех, кто по-русски не знал даже слова «здрасьте».
А потому язык предков осваивал я исключительно в кругу тесного семейного общения.
За свое американское начальное образование я должен поблагодарить мать. Это она сумела убедить каких-то ответственных дипломатических деятелей окунуть меня именно что в реальную англоязычную среду, а не отдать в посольскую учебку, завешанную коммунистическими лозунгами и портретами престарелых гангстеров из кремлевского политбюро.
Насколько понимаю, дипломатическое начальство пошло на такой шаг с известным прицелом: кто знает, может, сопляк, бойко лепечущий на английском, пригодится в дальнейшей борьбе с империализмом в качестве, допустим, шпиона-нелегала или, на худой конец, синхронного переводчика при сиятельной особе.
Матери отдаю должное: женщина она хваткая, хотя каким образом ей удалось родить советского ребенка на территории врагов социализма, а не отправиться с такой миссией на родину, как иные дипжены, — вопрос безответный.
То ли причиной тому были ссылки на состояние здоровья, то ли иные хитросплетения обстоятельств… Однако, так или иначе, мое явление миру в столице северо-американских штатов представляло собой вопиющий нонсенс, ибо я автоматически получил статус американского гражданина, что коммунистическими инстанциями рассматривалось, как факт идеологически болезненный и двусмысленный.
Я никогда не расспрашивал мать о тех мотивах, что подвигли ее произвести меня на свет Божий именно в Америке. Да и не были мне такие мотивы сколь-нибудь интересны. Скорее всего матерью руководило совершенно естественное желание родить ребенка в нормальном, оборудованном современной аппаратурой госпитале, одновременно избавив и себя, и его от многочасовых перелетов через океан, ну а что же касается моих прав в отношении американского гражданства — о том, вряд ли кто из моих родителей, хотя бы и ненароком, был способен задуматься, поскольку и отец, и мать, несмотря на свое относительно либеральное во многом мировоззрение, были коммунистами искренне заблуждавшимися, и иллюзии их система подкрепляла реальностью стабильных и приятнейших привилегий.
Привилегии семью сплачивали, довольно жестко диктуя благочинные нормы внешних семейных отношений, однако на внутреннем, то есть сугубо бытовом уровне страсти в нашей ячейке общества бушевали по полной, что называется, программе.
Со стороны, конечно, все выглядело благопристойно, даже идиллически — вот, дескать, перед вами образцовое сообщество идеологически выдержанных загранработников, однако бытовали в сообществе устойчивые и тайные пороки… Причем пороки, полагаю, основывались на принципе единства и борьбы противоположностей…
А именно: поддавал папаня. Каждодневно и непреклонно. И надо отдать должное — весьма профессионально. Никогда не теряя ни связности речи, ни безупречных манер. Категория интеллигентного алкоголизма. Чтобы до поросячьего визга — на моей памяти ни разу!
Но страсть к бутылке неотвратимо становилась единственной и всепоглощающей, а отношение к жене — подобным тому, как относится петербуржец к Эрмитажу — знает, что может, как говорится, посетить его в любой момент, и не более того…
Маман же — женщина в ту пору весьма привлекательная и живая, никоим образом не способная постичь всей прелести возлияний и похмелий — ударилась в разнообразные романчики, причем романчиком номер один явилась долговременная связь с одним ответственным чином из шпионской дипломатической иерархии, наверняка ей сильно покровительствующим.

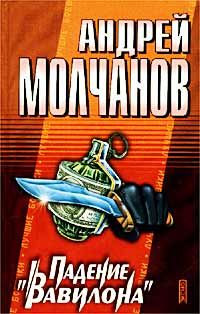
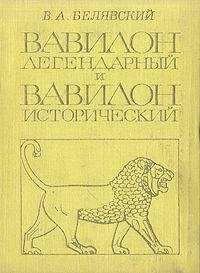
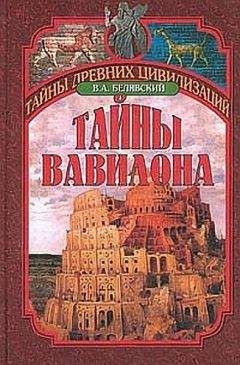

![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](https://cdn.my-library.info/books/51394/51394.jpg)