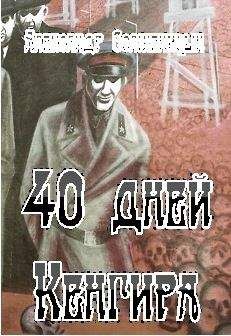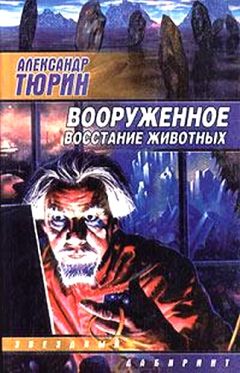– И как же вы выпутались? – спросил Спартак, закуривая. На второй самокрутке махорочный дым уже наждаком горло не скреб и голову не кружил.
– Оказался готов к развитию событий, – сказал Рожков. – К тому времени изучил, так сказать, женские слабости нашего больничного командира. Товарищ Лаврентьева у нас безудержна не только в любви, но и в питии. Переваливая через определенный рюмочный рубеж, самостоятельно остановиться уже не может. Вот эту карту я и разыграл. Когда остались с ней в приватной обстановке, я начал активно поднимать рюмку за рюмкой. На брудершафт, на швестершафт, за Родину, за Сталина. Разумеется, время от времени приходилось отвечать на ее страстные лобзания и объятия, изображая прямо-таки испанскую страсть. Но в последний момент мне все же удавалось выскальзывать из объятий и возвращать даму к столу. В конце концов товарищ Лаврентьева благополучно отключилась, припав лицом на скатерть. А мне оставалось только немного изменить декорации, чтобы наутро все выглядело так, будто ночь напролет мы предавались самому что ни на есть рассвинскому блуду. Я знал, что у Лаврентьевой наблюдается, назовем это так – посталкогольная амнезия, то есть отключение сознания после определенной дозы спиртного, когда на следующий день человек не может вспомнить, что с ним было накануне вечером. Вот Лаврентьева и не могла вспомнить. И оттого чувствовала себя полной дурой. Помимо того, ей просто-напросто было плохо с жуткого похмелья. А тут еще я молчу и веду себя как обычно. Ей расспрашивать неудобно, но вроде бы все говорит за то, что ночь любви удалась. Словом, товарищ Лаврентьева на мой счет успокоилась. Или лучше сказать, занесла меня в свой реестр покоренных ею мужчин, и этого ей вполне хватило, благо тут подвернулся очередной фаворит из числа больных.
– М-да, – покачал головой Спартак, отхлебнув остывший чай. – Если вы мне это рассказали, чтобы разжечь мою страсть, боюсь, эффект вышел прямо противоположный.
– Какая, к чертям свинячьим, страсть! – воскликнул Рожков. – Как вы не можете понять, что я толкую вам именно о здоровье. И не как врач толкую, а как... Да такой же зек, что и вы! В конце концов, чего не получится в ответственный момент, всегда можете свалить на здоровье, а я подтвержу, да, мол, при подобном течении болезни возможны осложнения интимного рода. А нет совсем никакого желания тет-а-тетно общаться – то кто вас заставляет! Лежите себе на койке, изображайте полумертвого. Или можете повторить мой сценарий. В таком случае хотя бы сможете набить пузо тушенкой и шоколадом, а это всегда нелишне. Ну и не говоря про это дело... – Доктор залихватски щелкнул себя по горлу. – Потом... это приключение вас встряхнет. В ту или другую сторону, но встряхнет. А встряска вам нужна не меньше, чем усиленное питание.
– Устал я от встрясок, – сказал Спартак. – Хочется покоя. Лежать хочется и не двигаться. Устал.
– Вот именно! – вдруг резко произнес Рожков, вставая. – Устал. Только усталость разная бывает. Когда наломаешься на лесосеке и еле ноги волочишь – это одна усталость. А есть усталость совсем другого рода – от всего. С первой человек спит без просыпу до утра, а с другой усталости просовывает голову в петлю...
– Ну уж в петлю я голову не просуну. Не дождетесь.
– Петля – это фигурально... Вместо петли может быть что угодно... Ледяная вода, например... Я вот все думал, какого рожна вы полезли на эту баржу. Ведь никто вас автоматами в воду не гнал... Сперва я было подумал, что вы метите в больничку. Это до боли знакомый мне типаж. Все правдами и неправдами попадают сюда и пытаются изо всех сил задержаться подольше. Вот тут недавно одного похоронили. Смазывал нитку в кале и пропускал ее через послеоперационный шов, чтоб тот, понимаешь, подольше не заживал. Естественно, заработал заражение, и как следствие летальный исход. Эхе-хе, чего только не делают. Бывало, кстати, и угрожали нашему брату, и мне в том числе. И не только на словах. Заточку приставляли, битым стеклом перед глазами водили, на груди до сих пор шрам от скальпеля – постарался один придурок, которого я до того прооперировал. Мол, это тебе задаток, лепила, не оставишь на два месяца на койке – всего на куски порежу. А вы поди наслушались в бараках красивых сказок про блатные законы, вроде того, что поднимать руку на «красный крест» – для блатного западло.
– Я много чего наслушался, – сказал Спартак. – Но верить всему подряд давно уже отвык. Еще до того, как загремел в бараки.
Рожков залпом допил свой вконец остывший чай. По-крестьянски утер губы ладонью. «Эх, – подумал Спартак, – наивный ты человек. Именно что автоматами и загоняли...»
– Ну ладно бы у вас имелся расчет: простудиться, лечь в больничку, подхарчиться. Но вы ж умный человек и не могли не понимать, что точно тут ничего не рассчитаешь, что запросто можно сыграть в деревянный ящик. Тогда что вами двигало? «Безумству храбрых поем мы песню»? Так, кажется, выразился буревестник революции. Ну, выразиться так Горькому было нетрудно. Ему, наконец, и платили за то, чтобы он правильным образом выражался. А я вот, хоть и не имею чести быть пролетарским поэтом, скажу вам другое – жертвовать собой противоестественно для человека как биологического существа, каким человек по сути своей и является. Инстинкт самосохранения – он, знаете ли, посильнее всех прочих будет. Иначе род людской и вымереть мог запросто.
– А как же Гастелло?
– Каждый отдельный случай, если скрупулезно докапываться до сути, имеет свою подоплеку. Были штрафники, которым приставляли дуло к затылку, не пойдешь – расстреляют на месте, и куда тут денешься! Или когда самолет падает, охваченный огнем, может, еще есть возможность выпрыгнуть с парашютом, но ты сам прошит пулеметной очередью, шансов выжить никаких. Уж лучше разом покончить со всем, прихватив с собой на тот свет побольше врагов. А есть еще такие, между прочим, которые неистово верят в загробную жизнь, и эта вера подавляет инстинкт.
– Когда рота без какого бы то ни было принуждения под шквальным огнем поднимается в атаку и прет на пули, а каждый боец понимает, что шансов почти нет, – это как вписывается в вашу теорию?
– «Почти никаких шансов» означает, что они все-таки есть. Пусть и мизерные. И каждый все-таки надеется, что чаша сия его минует.
– Ладно, – Спартаку было что возразить, но на споры его сегодня не тянуло. – Так что вы там про меня надумали? Зачем же, по-вашему, я полез на баржу, если не хотел загреметь на отдых в больничку?
– Как я уже сказал, самопожертвование противоестественно. Однако, как во всем и всегда, имеется некий предел, граница. Если человек переступает за нее, могучий инстинкт самосохранения слабеет...
– То есть, по-вашему, я переступил эту некую условную черту?
– Или вплотную к ней приблизились. Отчего да почему, что именно в вас надломилось, вам виднее...
Вот уже третий день длились их разговоры.
Странное у них с дохтуром складывалось общение, если вдуматься. Обычно у людей бывает так: начинают на «вы» и переходят, зачастую незаметно и не сговариваясь, на «ты». Тут же все было строго наоборот: сперва «тыкали», потом перешли на «вы». Да и разговаривали они каким-то уж слишком правильным языком, неосознанно избегая лагерных словечек. Спартак понимал это так: обоюдное и неосознанное стремление отгородиться от барачной жизни. Она, эта жизнь, никуда не денется, в нее еще успеешь вернуться. А так хоть создать видимость иного.
И еще Спартака не отпускало ощущение, что Рожков чего-то недоговаривает. Или что-то хочет сказать, но сдерживает себя. Собственно, это странное ощущение возникло с самого первого их разговора, затянувшегося на полночи. В общем-то, дело обычное – встретились земляки. Поговорить, кто где жил, куда ходил, что сделала с городом война, может быть, обнаружатся общие знакомые. Вдобавок оба не чужды некоторой образованности, как говорится, социально близкие. К тому же оба хоть и разного возраста, но много уже повидавшие. В общем, не было ничего удивительного в том, что первый разговор затянулся надолго.
Однако уже в первый вечер за обыкновенным разговором Спартак с некоего момента стал чутьем угадывать какую-то недоговоренность. Словно доктор что-то хочет сказать, но не решается, а ходит вокруг да около. И во время других бесед это ощущение у Спартака не пропало, а скорее наоборот – усилилось. Что там было у доктора на уме, Спартак сказать бы не решился. Всякое может быть... А может, и чудится на пустом месте. Но раз появившееся ощущение не пропадало. Отчасти поэтому Спартак жалел, что слишком много вчера рассказал про себя такого, о чем обычно предпочитал молчать...
Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула уборщица Петровна.
– Товарищ Рожков, больного Котляревского сама начальница зовет к себе в кабинет.
Взгляд доктора прямо засветился торжеством, мол, «ну, что я говорил!»