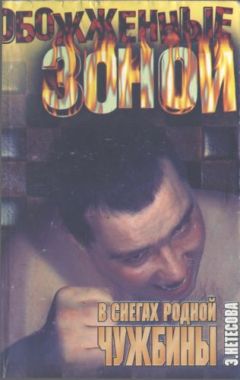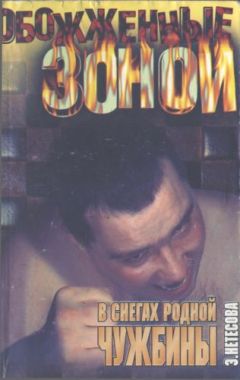«Решил сам меня размазать? Доконать последнего законника своими клешнями? Долго ж он собирался», — глянул на темнеющее небо Колька. Охранник подтолкнул стволом в спину, поторопил. И Коршун вошел в кабинет. Увидел Иваныча, который подморгнул ему.
— Прощай, — сказал Коршун тихо и стал спиной к стене.
— Здравствуйте! — услышал он давно забытое слово и вздрогнул.
— Пройдите ближе! Неудобно как-то разговаривать на таком расстоянии.
Колька не поверил, что сказанное относится к нему. Огляделся по сторонам. Никого, кроме них двоих, в кабинете не было. Исчезла и охрана, оказывается умевшая уходить тихо. Колька сделал несколько нерешительных шагов.
— Присядьте!
Коршун продолжал стоять.
Начальник зоны словно не заметил неповиновения, спросил глухо:
— Объясните сами, за что убили в бараке двоих заключенных?
— Лажали они меня. Туфту лепили.
— А без жаргона можете говорить?
Колька рассказал обо всем коротко. Не жалуясь, потому что ни на что не надеялся.
— Разве иначе нельзя постоять за себя? Иль убийство людей — есть доказательство собственной невиновности? Неужели к пережитому нужно добавлять горе? Страшная эта логика! Омерзительная! Когда из глупых амбиций режут людей! Разве это доказательство чести человека? Ведь вы осиротили пятерых детей! А что, если они захотят свести счеты за отцов, когда б вы вышли на волю?
— Я предупреждал! А воли мне все равно не увидеть. — Коршун отвернулся к окну и сцепил зубы.
— Вы сами себе приговор вынесли? — удивленно глянул начальник зоны.
— Мне не на что надеяться. Да и зачем жить, если всякий пидор шмонает меня, как сявку? — Колька закусил губу, дернувшуюся совсем по-мальчишески и выдавшую с головой.
— От этого еще ни один не умер!
— А разве это — жизнь? — побелел Коршун.
— Если за каждую обиду люди начнут убивать друг друга, земля опустеет очень скоро. Нет, в жизни без терпимости нельзя! Иначе были бы не зоны, а сплошные кладбища! Вы даже не попытались воздействовать на разум!
— Его у них не было. А и приобрести запоздали. Это от рожденья! Либо фраер, либо — фартовый!
— Выходит, мне тоже нет места в жизни? Так? Ведь я не фартовый! — побелели пальцы у начальника зоны, вцепившиеся в стол.
— Не вы меня шмонали. Они! О них и трехаю! — выкрутился Коршун.
— Значит, все, кто скажет против вас слово, рискуют жизнью?
— Шмон — не треп! За такое на воле любой садануть может и похлеще.
— Здесь зона! Нервы у всех на пределе! Вы только появились у нас. Всего полгода! А эти через год освободиться должны были. Кому из вас тяжелее пришлось? Кто позволил самосуд?
Коршун молчал, отвернувшись. Он почти не слушал. Думал лишь о своем:
«Нет, не станет мокрить в кабинете! Это как два пальца! Вон тут сколько всяких ковров на полу. Отмой их после меня. Дешевле в подвале. И шума меньше. К тому ж охранники и без него управятся».
— Подменять закон своими разборками я никому не позволю! — багровело лицо начальника.
— Да мне это и не надо. Но чтобы понять, представьте себя на моем месте! — предложил Колька.
— Что?! — Казалось, он захлебнулся воздухом, но сумел быстро взять себя в руки: — Я на вашем месте не окажусь!
— При чем зона? Я тоже не в ней родился! Прицепись кто на воле со шмоном, стали б с ним говорить?
Начальник зоны внезапно умолк, словно размышляя, обдумывая что-то.
— Во всяком случае, убивать не подумал бы, — ответил уверенно.
— Это на воле! А меня не первый раз шмонали! И не пресеки, до конца ходки трясли бы! Все, кому не лень! До них слова не доходят. Не раз пытался, безнадега, — забылся Колька.
— Я сомневаюсь. И все же. Совсем без наказания оставить не имею права. Пусть решает закон…
А через два месяца Кольку отправили в другую зону — во Взморье, где блатари и фартовые хозяйничали, как в своей хазе.
Коршун тут же передал кентам весточку, что изменил адрес. И стал приживаться в зоне, среди своих.
В фартовом бараке ему враз выделили шконку, взяли в долю. И забыл Коршун о работе. Но однажды бухнувший пахан барака предложил Коршуну сыграть в очко. Колька играл с ним до ночи, напился на холяву и запамятовал, что продул пахану все, что имел.
Утром, когда его бросало из стороны в сторону, а голова трещала, как раскаленный котел, попросил похмелиться. Пахан отказал, напомнив, что на холяву даже сявки не пьют. Тем более что и проигрывать Кольке нечего.
— Ты мне еще должен. Если не отдашь, сыграю на тебя, — пригрозил пахан. В шутку или всерьез предупредил? Но Кольке это не понравилось.
Пахан по взгляду фартового понял, что приобрел врага. И был настороже. Даже вечером держался подальше от ершистого, вспыльчивого законника, за которым ходила слава отпетого мокрушника.
Вечерами в фартовом бараке всегда было весело. Особо по выходным, когда даже сявки отдыхали от забот и лишь веселили фартовый люд.
Законники привыкли к таким концертам. И ждали их с нетерпеньем. Он начинался после требовательного окрика пахана:
— Кончай дрыхнуть, мудозвоны!
И тогда сявки, сбившись в кучу возле какой-ни- будь шконки, недолго пошептавшись, выходили, взявшись за руки, потряхивая ляжками, под гик и свист водили хоровод, напевая излюбленное:
…Софушка, София Павловна!
София Павловна, где вы теперь?
Полжизни я готов отдать,
Лишь бы Софу снова мять.
Софушка! Где вы теперь?
Фартовые хлопали в ладоши, подбадривая сявок, а они крутились, как червонный рубль на стекле:
…Софка — ангел! Софка — душка!
Софа — мягка, как подушка,
Софушка, любовь моя!..
— Хватит хороводов! А ну! Давай куплеты! — требовал пахан.
И тогда из-под шконок вылезали обиженники. Самый свежий пидор выходил без брюк, обвязав срамное полотенцем.
— Это не мое ли полотенце ты на жопу прицепил? — спохватился одноглазый кент. И, нагнав обиженника, с визгом удирающего по проходу к своей шконке, дал ему пинка, отняв полотенце, кинул сявкам на стирку и сказал: — Пусть лучше Савва трехнет, как он первый раз к девкам попал!
— Сто раз ботал о том! Лучше в рамса! Кто со мной? — глянул пахан на фартовых. Желающих оказалось немало. — Ставлю на кон — душу Коршуна! Все вы видели, как он мне вчера продул пять кусков. Не вернул, как обещал, до вечера. А потому… сколько кто ставит на него? — оглядел он Кольку, торжествуя.
— Ну что? Отзвенел, отбухтел? Теперь я что хочу, то и утворю с тобой. Никто из кентов не отыграл тебя. И больше ни копейки не ставят за твою шкуру! Секешь, кент?
Колька похолодел. Ему доводилось видеть, как расправляются с проигранными, с теми, кому нечем выкупиться у выигравшего.
Сколько раз клялся Колька самому себе не садиться играть пьяным, не терять голову. Не играть до последнего. Теперь он даже не помнил, не знал ставку. За сколько продал себя? За пять тысяч? Или меньше? Молчали кенты. Они никогда не выдадут пахана. Он им свой. По его слову с проигравшимся утворят что хочешь. Хоть шкуру спустят до пяток. Не пощадят.
— Не нужна мне твоя душа. Секи! Покуда — не нужна! В обязанники беру. На все годы, до самой воли! А когда выйдешь, исполнишь слово мое. И замокришь… Следчего. Лягавого! Он мне эту ходку устроил. Сорвал с такой шмары! Я ему тогда пообещал укоротить тыкву. Ты, Коршун, с ним сладишь. А нет… по моему слову замокрят тебя кенты! Вякнуть не успеешь, — пригрозил громко.
— Не пугай! Я уже пуганый! — осек его Коршун и спросил: — Кто он?
— Коломиец — фамилия того падлы. Зовут Владимиром Ивановичем.
— Где прикипелся?
— В Охе канает…
— А если его убьют до моей воли?
— С тебя сниму слово. Но если он доживет, а он дотянет, молодой пес, красиво расписать его должен. На его собственной бабе. В его доме! Доперло? Ну, то-то!