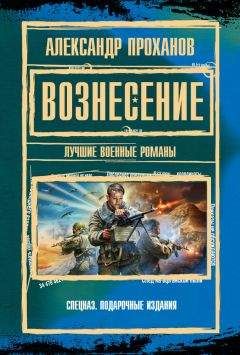Было темно, влажно. Из беззвездного неба моросило. Пахло близкой рекой. Ни огонька. Лишь далеко, затерянно грянул выстрел, и ему откликнулись тоскливым ржанием бессонные кони. Проскакали, наполняя ночь мятежным галопом.
Мука его росла. Тоска становилась смертельной. Казалось, над всем нависло несчастье. Где-то рядом, на ночной лужайке, стояли в кругу целлулоидные пустые святые. В небе не было звезд. Мучилось дерево, отягощенное обреченным урожаем. И душа, предчувствуя смерть, рвалась и металась под темными моросящими небесами.
Он вдруг вспомнил, где видел эти улицы и сады, эти деревья и храмы. Они были разноцветные и чудесные, на белом снегу, нарисованы волшебным художником, который приоткрыл ему райские, неземные красоты, куда повела его она, его милая. Но он ее обманул. Зачернил, закоптил снега. Обесцветил волшебные краски. Этот город был покинутым Раем, откуда улетели ангелы, ушли, не касаясь земли, святые и праведники. Был пуст, бесцветен, оставлен Богом. И в этом был повинен он, Белосельцев, нарушив священный обет.
Он ее обманул, пренебрег ею. В своей слепоте искусился на великие посулы. Разрушил божественную, возникшую между ними связь. И пророчество ее начинало сбываться. Приближалась беда, уносившая с земли что-то огромное, родное, священное. Быть может, Родину, которая проваливалась в преисподнюю вместе с любимыми городами и храмами, заповедными лесами и реками, обожаемыми картинами и книгами. Ему в наказание, как невыносимую муку и казнь, предстоит пережить эту беду и крушение. Старый и немощный, без Родины, без любимых и близких, изгнанный из Рая, с посыпанными пеплом волосами, будет стоять под свистящим осенним ветром, дующим над погибшей страной.
Беда приближалась, как огромный, летящий из Вселенной метеорит, пущенный чьей-то могучей, исполняющей казнь рукой. И, желая остановить эту руку, в великом раскаянии, каясь в смертном грехе, он стал молиться. Ей, любимой, чтобы она простила его, остановила пророчество, приняла его обратно в свою жизнь и судьбу, и он, прозревший, очнувшийся, одолев заблуждение, уедет с ней подальше от войны и крови, в родную русскую благодать, где они станут беречь дарованное им чудо, и этим бережением спасется мир.
Он просил пощадить Родину, не губить ее, заслонить. Пощадить в колыбелях младенцев, а на смертном одре стариков. Пощадить семена в земле. Зверя и птицу в лесу. Бабочку-голубянку на мокром цветке. Его страстные уговоры уносились ввысь, сквозь тьму и дождь, где дул огромный, омывающий землю ветер. Его упования, подхваченные ветром, сливались с упованиями других неспящих людей. По всей земле в эти минуты люди не спали, молились, отрицали смерть, и их совместной бессонницей и молитвой сохранялась земля. Младенцы припадали к груди. Старики забывались во сне. Бабочка комкала лапками мокрый цветок ромашки.
«Милая, пошли мне прощение… Откликнись…» – умолял Белосельцев.
Когда вернулся в казарму, у входа, среди смоляных костров, его встретил взволнованный Сесар:
– Виктор, я связался с Росалией!.. Она сообщила, что сегодня в Пуэрто-Кабесас прилетел субкоманданте Мануэль Санчес, и с ним твоя Валентина!.. Завтра их увидим!..
Утром Джонсон связался со штабом по рации. Пришел сообщить Сесару и Белосельцеву:
– Начальник разведки информирует о напряженности на дорогах. Замечено перемещение банд из глубинной сельвы к коммуникациям и населенным пунктам. Авиация засекла группы «мискитос» на каноэ в районе Рио-Вава, как раз на нашем маршруте. Нам предлагают воздержаться сегодня от выезда. Провести несколько дней в Васпаме. Выношу это предложение на ваш суд.
Солдаты волокли на кольях закопченную кастрюлю с водой. Наряд в пятнистых мундирах устало возвращался в казарму. Сержант подошел к билу и шкворнем ударил, гулко, тягуче, выколачивая медлительные, ноющие звуки. И мысль, что придется жить среди этих унылых, разрывающих сердце звучаний, в то время как близко – всего день пути – поджидает его она, его милая, ненаглядная, и уже вечером он услышит ее смех, будет пить с ней вино, а потом вся ночь в Каса-Бланка, шум океана, душистый, дующий с веранды ветер – конечно, в дорогу, немедленно.
– Друзья, надо ехать. Банды «мискитос» то и дело выходят к дорогам, такая уж у них привычка, не могут иначе. У нас три машины, огневая мощь. Мой «галиль» проложит путь к океану. Есть такая песня в России: «Штыком и гранатой пробились ребята…» Ребята – это мы! Надо ехать!
Сесар думал, переступая огромными бутсами. Джонсон, строгий, чернолицый, с фарфоровыми белками, в которых лопнули кровяные сосудики, был готов к любому решению. Белосельцев понимал, что понуждает их к риску. Но разве не риском была их дорога сюда, мимо липкого пятна на обочине, где погиб инженер-разведчик? Не риском было идти по болоту среди шипящих разрывов? Или сидеть у окопа с гнилой горячей водой, где плавала желтобрюхая дохлая тварь? Зато вечером они скинут вонючие замызганные одежды, встанут под прохладный шелестящий душ, пойдут в ресторан и поужинают не этой пресной проклятой фасолью, а креветками в молоке, отмечая возвращение стаканом «Флор де Канья», и Росалия будет смотреть на Сесара обожающими, влажными, как у оленя, глазами, и Валентина станет тихо, счастливо смеяться, подымая удивленно золотистые брови.
– Едем, – сказал Сесар, согласившись со всеми его невысказанными доводами.
– Тогда садимся в желтую хвостовую машину, – сказал Джонсон. – Если их разведчики следили за нами, они подумают, что мы в головной. А мы поедем в желтой, последней.
Три их «Тойоты» мчались в соснах, упруго взлетая на холмы, прорезая болотистые низины. Белосельцев в нервной радости, притянув к себе «галиль», зорко всматривался в мелькание дымчатых сосен. Почти желал появления вон на том срезанном песчаном кювете, вон из тех фиолетовых зарослей вереска краснолицего индейца с винтовкой. Знал, с ними ничего не случится, пуля их не коснется, а только прибавит гонке остроты и азарта. Этим призывом он не дразнил, не искушал судьбу – просто знал, что с ним ничего не случится. Валентина ждет его за лесами, болотами, думает о нем, охраняет. Видит его улыбку на искусанном комарами лице, его поцарапанную руку, сжимающую автомат, три разноцветные «Тойоты», волнообразно бегущие в холмах. И «мискитос», спешащие к дороге, не поспевают, блуждают в болотах, путаются в дюнах, а когда припадают к прицелу – только облачко бензиновой гари да свежий рубчатый след на песке от их желтой «Тойоты».
Так и мчались весь день под теплым шелестящим дождем, мочившим среди сосняков и пряных болот каких-то незадачливых, не успевавших к засаде индейцев. Под вечер подкатили к последним холмам, за которыми находился военный лагерь, а там и Пуэрто-Кабесас. Чувство миновавшей опасности, окончание изнурительной дороги охватило их одновременно, как опьянение после выпитых натощак стаканов.
– Джонсон, вы гнали всю дорогу так, что не давали индейцам прицелиться. Это нечестно. Они будут жаловаться субкоманданте! – Белосельцев любил этого чернокожего сандиниста, разделившего с ним неудобства опасной поездки. – К тому же вы так часто пересаживали нас из «Тойоты» в «Тойоту», что у них, у бедняжек, зарябило в глазах. Это не по правилам, не по-мискитски!
– Виктор, я торопился, потому что мне было страшно, – смеялся в ответ Джонсон. – Вы держали гранату между колен, на самом опасном месте. Я думал, не дай бог, она у вас там взорвется! Что скажет начальство! Что скажут девушки Пуэрто-Кабесас!
– Ни слова о гранатах! – говорил ему Белосельцев. – Только о девушках!
Взлетев на холмы, решили остановиться и пострелять из «галиля». Отправили головные машины в военный лагерь, чтобы стрельба не всполошила дозорных, а сами отыскали старую автомобильную шину и лежа, откинув сошки, били по ней из автомата. Бегали, считали пробоины. Укладываясь грудью на теплую мокрую землю, посылая в сумерки твердые резкие очереди, Белосельцев радовался, что их путь завершен, они вырвались из «треугольника красных дорог» и их забава, их салют – в честь окончания пути.
Въехали в Пуэрто-Кабесас в темноте, когда окна закраснелись светом, и в маленьких кабачках, в синем полумраке играла музыка и на малиновых углях жарилось и дымилось мясо. Толпа на улицах была густая, темно-накаленная, после дневного жара хотела наслаждаться, любить. Клубилась у мигающих дверей кинотеатра. Отливала яркими платьями у входа в дискотеку.
Подкатили к дому Росалии, и она словно ждала, выпорхнула на ступеньки, обняла Сесара, почти скрылась в его объятиях.
– А Валентина? – спросил Белосельцев, когда Сесар бережно поставил жену на землю. – Она здесь?
– Виктор, она уехала днем в Сиуну вместе с субкоманданте Санчесом. Завтра вернется. Просила вам передать, что все хорошо. Она сочинила вам стишок и прочтет, когда вернется. Мы с ней подружились. Она очень веселая, остроумная. Ее и субкоманданте повез наш шофер Роберто на санитарной машине.