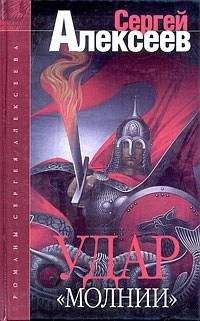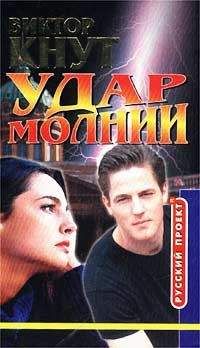— Не поеду, — сразу заявил он. — Мне там нечего делать.
— Но тебе и здесь делать нечего, — отпарировал генерал.
— Нам всем уже здесь нечего делать! — сорвался Глеб. — Ты же видишь, Дед, нас подставляют. Никакой полицейской операции не будет! Началась другая игра. Но потом на нас повесят всех собак! Надо уходить отсюда.
Дед Мазай, как всегда, оставался спокойным, словно заведомо знал, чем все закончится.
— Да, брат, проигрывать всегда тяжело. Но иногда нужно, иногда бывает полезно. Поражение учит больше, чем победа.
— А я не хочу больше поражений! — рубанул Глеб. — С меня хватит октября девяносто третьего!
— Тогда мы победили, — заметил генерал. — Не мытьем, так катаньем…
— После такой… победы я едва выжил. А ты меня снова втравил в авантюру! Мы заложники, Дед! Нас бросили! Где вертолеты? Где заминированные боеприпасы? Вместо них Диктатору идет вооружение… Все! Не хочу больше! Когда нет единой государственной системы, «Молния» бесполезна, Дед, а я устал чувствовать себя бесполезным.
— Если устал — уходи, не держу, — как-то безразлично проговорил дед Мазай и еще сильнее завел Глеба: — Нет — выполняй приказ.
Головеров вдруг физически почувствовал, как перешагнул недозволенную черту и все сказанное им теперь будет вносить раскол, чего никогда не было и быть не могло в «Молнии». Нужно было остановиться, скрутить себя, зажать и выполнить приказ…
Вместо этого Глеб сел и тут же написал рапорт об увольнении.
— Один есть, — сказал генерал невозмутимо, открывая какой-то счет. — Отпускаю тебя, иди, Глеб. И пусть тебе больше не снятся страшные сны.
В ту же ночь дед Мазай ушел в Знаменское, а Головеров еще сутки провалялся на грязной раскладушке в музее и, не ощутив удовлетворения от свободы, определился в вольные стрелки…
Козел оказался старым, вонючим, а мясо — недоваренным и застревало не только в зубах, но и в желудке. Утром у Глеба разболелся живот — не на пользу пошло ворованное. Ко всему прочему, он заметил, как из села в сторону фермы вышла одинокая женская фигура. Приближалась она медленно, с частыми остановками, однако целенаправленно; это была пожилая русская женщина в темных, невзрачных одеждах, в платочке, повязанном по-чеченски, с большим животом и толстыми, вероятно больными, ногами. По пути к коровнику она что-то искала, всматривалась в даль, бродила между заросшими травой навозными кучами, и Глеб, рассмотрев в ее руке кусок хлеба, понял, что это хозяйка зарезанного им козла. На скотном дворе женщина будто забыла о поисках, посидела на камне у распахнутых ворот, вытянув ноги, передохнула и вошла в коровник. Глеб осторожно наблюдал за ней сквозь дыру в потолке, через которую когда-то подавали сено. Забраться на чердак из-за своего веса и болезненной неуклюжести она не смогла бы, поэтому он чувствовал себя в безопасности, главное, не заметила бы следов крови: резал козла в потемках и присыпал следы наугад… Женщина прошла в глубь сумрачного помещения, на ходу, машинально, закрыла на вертушки распахнутые калитки в коровьи стойла, медленно огляделась и, заметив грибы на полу, неожиданно заплакала в голос. И плача, сняла платок, расстелила и стала собирать шампиньоны. Эти странные женские слезы отозвались неожиданным образом — у Глеба перехватило горло и заложило нос. Под долгие всхлипы и вздохи она собрала грибы, подняла платок за уголки, села на коровью кормушку и заплакала еще горше, с низким, неразборчивым причетом, будто по покойнику. Уголок платка выскользнул из руки, грибы рассыпались, а она этого и не заметила. Чужое это, подсмотренное горе вдруг ознобило голову, и непонятные слезы закипели в глазах. Глеб тихо отпрянул от дыры, сел, обняв колени, и несколько минут слушал щемящий душу бабий вой. Не козла она оплакивала, что-то другое, возможно, свою собственную жизнь…
«Что же ты плачешь, мать? — стискивая зубы, мысленно спросил Глеб. — Ну хватит. Хватит! Иди!»
Плач неожиданно оборвался, и несколько мгновений внизу была полная тишина.
— Кто здесь? — наконец спросил женщина тихим, боязливым шепотом. — Эй! Кто тут есть?
Глеб замер, затаил дыхание: неужели не подумал, а сказал вслух? И был услышан?..
На четвереньках, стараясь не шуршать сопревшей и пересохшей соломой, он подобрался к лазу — женщина осматривала потолок, чувствовала присутствие человека. А на лице ничего, кроме страха…
Платок с рассыпавшимися шампиньонами валялся в стороне. Забыв о нем, женщина медленно двинулась к воротам, опасливо жалась к стене, словно ожидая выстрела сверху. Сейчас уйдет, позовет людей или даже кому-либо скажет — и все пропало. Не то что прячущийся человек, тут всякий незнакомец вызывает подозрение, а среди земляков Диктатора оппозиции не может быть, и рядом еще учебный центр…
— Не бойся, мамаша, — негромко сказал Глеб и выглянул в дыру. — Не бойся, я свой, русский.
Женщина остановилась у ворот, готовая в любое мгновение скрыться за углом, на заплаканном, красном лице отпечаталось глубокое смятение. Глеб сдвинул автомат стволом вниз и медленно, чтобы не спугнуть, спустился на ограждение коровьего стойла.
— Ты кто? — разглядывая его, проронила женщина. — Дезертир?
— Нет, я не дезертир… Я русский, мать.
— Так русские и есть дезертиры.
— Я сам по себе. Забрался на чердак отдохнуть.
— Значит, бандит, — горестно вздохнула женщина. — Сейчас много бандитов, и русские есть, и чеченцы. Все с ружьями ходят, как ты.
— И не бандит, матушка, — улыбнулся Глеб. — Просто человек. Спал и услышал, кто-то плачет внизу…
— Как не бандит? Зачем вон доски отодрал? — Она указала на чердак. — Может, жизнь еще поправится, так и ферма сгодится. Не все же воевать будут.
В первый же день, дождавшись ночи, Глеб осторожно выломал доски фронтона: иначе невозможно было стрелять из гранатомета на чердаке, реактивный выхлоп, ударившись о преграду, мог опрокинуть, сбить с ног. Конечно, сухая солома после выстрела обязательно вспыхнет за спиной, но пока разгорится, дело будет кончено…
— Потом починю, — пообещал он.
Женщина лишь махнула рукой, мол, знаю, как починишь…
— Все разорили… И что люди думают? Новая ферма была, семь лет, как построили. Считай, и не попользовались. Только обрадовались, не надо навоз вилами кидать, механизация… Вот тебе и механизация.
— Что же ты плакала так, мать? — спросил Глеб.
— Как не плакать? — деловито спросила женщина. — Двадцать лет тут зоотехником отработала, еще в старой ферме мои коровы стояли. Каждое утро в пять часов на ногах, зимой и летом в эту горку… Медали получала, на пенсию собиралась. А какие коровы у меня были! Нет теперь ничего, все растащили, одни слезы остались…
— Кто растащил-то? — Глеб спустился на пол и, не делая резких движений, приблизился к женщине.
— Да все, кому не лень. В одну ночь всех коров по дворам развели.
— Русских-то много в селе?
— Мало… Всего и было шесть домов. Специалисты жили, механик, главный инженер, ветеринар да учителя. Кто по распределению после учебы, кого райком послал. Теперь одна я осталась. Как совесть люди потеряли, так и грабить стали. Русские все уехали, дома побросали. А раньше жили душа в душу с чеченами, зла не знали. Люди и люди, — она присела на перевернутое железное корыто. — Что сделалось нынче? Куда и стыд по девался? Нас уж пять раз грабили, все забрали. Машину угнали, ковры унесли, холодильник… И еще ходят, глядят, что бы взять.
— Неужели свои грабят? — спросил Глеб.
— Свои не трогают. Свои ездят в соседнее село грабить. А из того села — к нам. Мы так раньше ездили опытом обмениваться или с концертами. Весело жили. Теперь как волки стали, где живут — не пакостят. Да легче ли от этого?.. Наказание нам, что ли? Я после техникума сама на юг просилась, так хотелось пожить в теплых краях. Родом-то из Сибири, из холода, там у нас ничего не растет путем. Вот и хотела поискать легкой жизни. Здесь-то в землю семечко брось — вот и урожай. Да и живут здесь богаче, с Сибирью не сравнить. Вон какой дом мы себе построили!.. Да все теперь прахом пошло.
— Президент-то к вам приезжает-нет? — воспользовавшись паузой, спросил Глеб, — Он же земляк ваш.
— Приезжает, да все к себе в село, — пожаловалась она. — У нас редко бывает. К нему ведь не подойдешь, не пожалуешься… Приезжает, тут его любят, чечены так прямо как больные делаются… А не ты ли моего козла прибрал, парень? Козел у меня потерялся… Ой, однако, ты взял!
Обмануть ее было нельзя — все равно бы «услышала» обман, как услышала его мысли…
— Я прибрал, матушка, — признался он. — Прости меня, не по злу — от голода. Подумал, чеченский козел…
— Если чеченский, то и брать можно?.. Вот с этого и пошел весь разор. А говоришь, русский… Какой ты русский, если украл? Это чеченам воровать и грабить можно — нам нельзя, нет у нас такого обычая. Моего козла даже чечены не брали — ты взял.